Шапочный разбор. Глава из рукописи
И.М. Ивановский
Мастера и ученики
Литераторы старшего поколения, начинавшие до революции или в двадцатые годы, уходили из жизни. Я попал к шапочному разбору.
От Пушкина это поколение отделяло всего несколько десятилетий. Это была тонкая пленка высочайшей культуры. Революция взболтала общество, и на поверхность вышли низы, часто талантливые, но, как правило, бескультурные. Им предстоял такой долгий путь к вершинам культуры, что на него не хватало жизни.
Уходившие литераторы уносили с собой не только культуру и мастерство, но и нравственные законы. Например, отношение к младшим. Их по-настоящему заботило, кто будет продолжать их дело, и волновало появление каждого нового таланта, большого или малого. Само собой разумелось, что младшие всем существом стремятся оправдать это отношение старших.
Я общался с мастерами, и с меня сходило семь потов стыда, потому что сведений о культуре я почти не имел, а понятия у меня были дикие — сказалась война, блокада и гибель семьи. И я навсегда благодарен старшему поколению за стоическое терпение.
Через много лет, всё с той же неизменной благодарностью сердца перечитываю письма из архивной папки. В этих письмах много великодушных слов в мой адрес. Если я их привожу, то ради памяти мастеров, их заботы об учениках, их самоотверженной готовности придти на помощь. Что же касается моих работ, читатель сам вынесет им приговор, и никакое заступничество тут не поможет.
Школу я оканчивал в 1950 г., война только-только отошла в совсем близкое прошлое, и большая часть мужского населения донашивала гимнастерки и кителя. Отец погиб во время блокады, мать работала участковым врачом, а я писал стихи и был предоставлен самому себе. Беда была в том, что наша семья никогда не соприкасалась с людьми литературы и искусства. Множество вопросов, а спросить некого.
Но произошло, одно за другим, три чуда. Первое — то, что мой одноклассник и лучший друг Илья оказался сыном художницы Александры Николаевны Якобсон, и я впервые увидел настоящего мастера с настоящим отношением к искусству. Александра Николаевна и ее муж, художник Миней Ильич Кукс, сразу отнеслись ко мне, как к еще одному сыну. Не знаю, что они видели в моих юношеских стихах и переводах, но что я пылал страстью к искусству, как пышет жаром больной с температурой за сорок — это было для всех очевидно.

И.М. Ивановский
За этим чудом последовало другое: через некоторое время Александра Николаевна подарила мне книгу. На чистом начальном листе она нарисовала два окошечка с занавесками и написала: «Юному соседу по Парнасу». То есть признала за своего, пусть начинающего, но настоящего. Это было так важно для меня! А третьим чудом оказалась, собственно, сама книга, сборник переводов Самуила Яковлевича Маршака «Вересковый мед», да еще и с рисунками В.В. Лебедева. Я стал читать, в сердце мне ударило эхо иноязычной, но таинственно родной поэзии, и на десятой странице я уже твердо знал, что передо мной то самое дело, которым я буду заниматься всю жизнь. А вот чего я не мог знать — что всю жизнь буду любить переводы Маршака и всю жизнь с ним творчески спорить.
Александра Николаевна познакомила меня с домом Виталия Валентиновича Бианки и еще с одной семьей художников — Василием Адриановичем Власовым и Татьяной Владимировной Шишмаревой. С их сыном Борисом я подружился. А отец Татьяны Владимировны, академик Владимир Федорович Шишмарев, позвонил Михаилу Леонидовичу Лозинскому, который в то время уже очень болел и никого не принимал. И по рекомендации Шишмарева я оказался в доме Лозинских. Стал учеником Михаила Леонидовича, а после его смерти разобрал и описал его архив. Наметился и еще один путь — от Виталия Валентиновича Бианки к Евгению Львовичу Шварцу.
От одного мастера к другому — таким был счастливый путь моей студенческой юности. Счастливый, хотя время было смутное, наверху шла борьба за власть, исход и последствия которой трудно было предвидеть. Пламя Гулага еще догорало, оно вполне могло разгореться снова, и мастера передавали друг другу нового ученика, как младенца на пожаре.
Власов
Известный график ленинградской школы, чего только не пережил Василий Адрианович Власов — отрочество в доме Репина, беспризорщина, работа в кино (он был, например, художником фильма «Выборгская сторона»). В понимании изобразительного искусства мало было ему равных. Даже случайно оброненные замечания были для меня бесценны. А он не побоялся открыть мне и то из литературы, что было тогда под строгим и опасным запретом: Заболоцкого, Бабеля, обериутов.
Прочитав рукопись моих воспоминаний об Ахматовой и Лозинском, Власов прислал письмо: «Читал и с удовольствием, и с интересом. По-моему, написано очень хорошо. Правда, есть несколько завитушек. Пожалел, что мало (не завитушек, а чтения). Напиши еще и побольше.
Про Лозинского немножко много о том, что он умер, и маловато о том, что он был живой. Про Ахматову, повторяю, просто хотелось бы еще.
Напиши цикл рассказов или хотя бы роман. Не откладывай, а то я не дождусь и помру».
Под «завитушками» Власов подразумевал всё то, что было лишним, необязательным, особенно авторское кокетничанье.
Вспоминаю Василия Адриановича — его парадоксы, всхлипывающий смех, трубку, и за всем этим – всепожирающую любовь к искусству и работу за троих и за четверых.
Драгунский
Популярность «Денискиных рассказов» Виктора Юзефовича Драгунского была неописуемой. Можно сказать, что их читала и хохотала над ними вся Россия разом. Я сам видел, как деревенский мальчик, читая рассказ, от смеха упал вместе с табуреткой. Новорожденных повально называли Денисами. Читательские письма приходили мешками.
Было среди них и мое письмо. Я послал Драгунскому рассказ «Катя» и приглашение от редакции районной газеты, где я тогда работал, приехать погостить на Север. В ответном письме Виктор Юзефович писал:
«... Теперь о главном. Кто написал рассказ «Катя»? Дайте его фамилию — автора то есть. Постараюсь напечатать. Мне понравился рассказ — в нем свежесть и льдинка. Незнакомый язык — поэтому юмор до меня очень доходит. Хорошо, что коротко — лаконично — все это меня прельстило, выношу похвалу и благодарность от имени русской литературы, хотя и вижу,— что Чехов, Бунин и Платонов влияли на создателя вещи — но это ничего — компания подходящая, 3-х летняя девчушка говорит:
— Страмовка, чудо погано! Убью тебя!
Это серьезно и весело. Добро и правда. И верно, что она задничкой бьет в дверь, пока отойдет. Кстати, я бы так и написал.
Портрет учительницы — традиционен и сладковат. Я бы посолил — может быть и старая с грубыми жухлыми руками.
Класс «победоносно запевает». Тут слово «победоносно» — сомнительно, хотя то, что хотелось передать,— доходит, впечатление радостной горластости достигается».
С рассказом «Катя» Драгунский обошел многие московские редакции. Но мужики в рассказе пьют, а как раз в это время шла очередная кампания борьбы с пьянством. Редакции рассказ отвергли.
Заболоцкий
Шварцы и Заболоцкие тесно дружили семьями. Однажды Евгений Львович при мне говорил с Николаем Алексеевичем по телефону, и у меня было странное ощущение нереальности происходящего: оба Заболоцких, автор «Столбцов» и автор поздних стихотворений, существовали для меня в вечности, а не в нынешнем дне.
Летние месяцы я иногда проводил в деревне недалеко от Смоленска. И однажды написал письмо Николаю Алексеевичу, пригласил его приехать на лето. Мне очень хотелось познакомить Заболоцкого с местными жителями, например, с Василием Яковлевичем Сухоруковым, помимо сильного и оригинального ума, обладавшим не менее сильными сверхъестественными способностями. Помню, как привезли на телеге страшно раздувшуюся корову — ее укусила в вымя гадюка, как Василий Яковлевич парился в бане, готовясь к врачеванию, как вылечил животное травами и заговорами, и как через три дня корова мирно ушла домой, привязанная к той же телеге.
Мы уже готовили для Заболоцких пустовавший дом, мыли полы, обтирали стены, проветривали. Но пришло письмо, которое доставило мне и огорчение, и радость.
«Обстоятельства и намерения мои в отношении лета несколько изменились. Лето я проведу на Оке в г. Тарусе Калужской обл. Это в 130 км от Москвы, там живут мои друзья, счастливые обладатели машины; они шефствуют над моей скромной особой, которая по нездоровью действительно нуждается в некоторых удобствах. Таким образом отпадает план провести лето с Вами, в относительном далеке от Москвы. Сердечно благодарю Вас за внимание и простите, что не смог воспользоваться Вашим предложением.
Ваш перевод поэмы Лонгфелло я прочитал с удовольствием и пользой для себя. Он выгодно отличается от многих иных переводов этой книги, т.к. сделан с любовью, мастерством и талантом. Желаю Вам новых успехов и рассчитываю на то, что в дальнейшем мы с Вами познакомимся поближе.
Ваш Н. Заболоцкий»
Каверин
Автор столь любимого мною в отрочестве романа «Два капитана» почти безвыездно жил в Москве, и я послал ему письмо о Севере, о том, что меня окружало. Завязалась переписка. Привожу выдержки из нескольких писем.
«Вы меня очень обрадовали новым письмом. Я его прочитал своим семейным вслух. Во-первых, оно написано отлично, таким спокойным, ясным, русским языком, что и слух, и глаз невольно отдыхают. Во-вторых: я знал, конечно, что несмотря на все многолетние бедствия, исконная интеллигенция все-таки сохранилась. Но что исконная русская деревня еще жива — это для меня новость.
Нет, Вы должны об этом написать. И в письме видны, как живые, люди. Что же будет, когда возьметесь Вы за рассказы о таких Агафоновых? Если Вы так богаты наблюденьями — конечно, я от Агафоновых не откажусь, хоть они — да и все Холмогоры — бесконечно далеки от моего будущего романа.
Конечно, у меня есть проза Евгения Львовича. Знаете ли Вы, что его друзья собрали и вскоре выпустят сборник воспоминаний о нем. Там будет и моя небольшая статья.
По-прежнему: меня интересует все. Рад буду прочитать Ваши новые рассказы. Пишите».
«Спасибо Вам за новые интересные письма. Первый том посылаю одновременно с этим письмом. [Первый том собрания сочинений Каверина.— И.И.].
Вы спрашиваете меня, что Вам писать? [Задавая этот вопрос, я имел в виду — о чем писать в письмах Каверину, что именно его интересует в жизни провинции, но Вениамин Александрович понял вопрос шире.— И.И.]. Но Вы уже пишете то, что Вам надо писать. Соедините случаи, характеры, природу, поверья – вот Вам и книга. Вопрос только в композиции и еще в том, что всего этого должно быть много. Так писал прекрасный, мой любимый С.В. Максимов. Композиция у него, как Вы знаете, разная. Одна, так сказать, горизонтальная: «Год на Севере», другая — вертикальная: «Бродячая Русь Христа ради». У Вас в руках «инвентарь», который непременно станет картиной. Я вижу ее уже в Ваших письмах.
Что касается Ваших переводов — они хороши и не стоит, мне кажется, оставлять это прелестное занятие. Но, мне кажется, Вы сильнее, как потенциальный прозаик».
«Сердечно поздравляю Вас с рождением сына. Это — прекрасно. Со своей стороны, Вы можете поздравить меня с рождением внучки (четвертой). Это тоже очень хорошо, тем более, что у нее — тыняновский лоб.
Меня очень порадовало оглавление Вашей книги. Я совершенно уверен, что это будет удача, в особенности, если Вам удастся добиться свободы, т.е. забыть, что литература — это дело, требующее какого-то особенного, благоговейно-торжественного отношения. С литературой надо обращаться, как с женой, т.е. любовно, просто и смело. С чувством, что ей все равно некуда деваться и никуда она от Вас не убежит. Тогда-то и получаются хорошие дети.
Мы с Л.Н.— в Ялте. Здесь — прохладно, но прелестно. Я докупался до того, что слег с t°, но сегодня уже почти в форме и намерен снова, как дож, повенчаться с морем».
«Жизнь идет, за годы, что мы не виделись, произошло немало событий, о которых стоило бы рассказать при встрече. Рад, что у Вас все в жизни складывается хорошо. Любовь к литературе и оптимизм так же помогают Вам, как помогали мне».
Пантелеев и Шварц
Не больше десяти раз я был у Евгения Львовича Шварца на Посадской, раза три — на даче в Комарове. С первой минуты пораженный и плененный Шварцем, я приходил к нему, зная о нем мало. Разве я мог знать тогда, что передо мной автор «Дракона»? Школьник выпуска 1950 года — это в некотором роде историческое явление по отсутствию информации.
Знакомый композитор предложил написать либретто оперы по пьесе Шварца «Тень». Окончив первый акт, я отнес его Шварцу.
Сквозь робость и смущение вижу большого, рыхловатого и какого-то породистого человека. Стоя с рукописью в руке посреди комнаты, он с воодушевлением читает вслух то единственное место, которого в его пьесе не было — арию Ученого о человеческих руках:
Глядишь, рука, дрожащая от горя,
А в ней счастливца легкая рука.
Потом с серьезным, почти деловым видом говорит:
— Шекспир... Вот возьму и вставлю в новое издание. И не докажете, что это вы сочинили. Кто вы такой? Никто. А я — известный писатель Евгений Шварц.
Это сказано так прелестно, с такой тонкой игрой, что мне сразу становится легко и свободно. И уже не мешают собственные руки и ноги.
——
В дни хрущевской оттепели я однажды снял с полки книгу стихов Алексея Константиновича Толстого. Книга раскрылась на «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Я стал читать, в очередной раз зачитался и вдруг почувствовал, как вопиет о продолжении эта замечательная поэма. В меру сил я это продолжение и сочинил, и было там разное:
В ежовой рукавице
Держал он нас тогда.
По шаткой половице
Ходили в те года.
Или:
Тут доблесть в нас воскресла
И оный дух побед.
Глядь — препоясать чресла
У нас повязки нет.
Хоть обмундированью
Цена и дорога,
Но мы отборной бранью
Унизили врага.
В заглавии вместо «до Тимашева» стояло «до Берии» (оба были министрами внутренних дел). Предпоследней строфой была строфа Алексея Константиновича, и конец поэмы выглядел так:
Составил от былинок
Рассказ немудрый сей
Худый, смиренный инок
Раб Божий Алексей.
А повести бесовской
Придал елейный вид
Игнатий Ивановский,
Отец-иезуит.
Это продолжение я и прочел Шварцу. Он слушал с большим вниманием, а потом сдержанно сказал:
— Сейчас я попрошу Катерину Ивановну принести чаю с вареньем.
Помолчал и добавил:
— Съешьте это. Я столько видел милых мальчиков, погибших без малейшей вины, что имею право дать совет. Съешьте с вареньем.
Да, право на совет у него было. Все друзья Шварца оказались под кровавым колесом, а сам он выжил по чистой случайности.
Через сорок с лишним лет я повторил свою попытку. И, работая над стихами, нет-нет, да и вспоминал о «чае с вареньем».
——
В магазине я увидел пишущую машинку. Стоила она тысячу семьсот рублей. Денег у меня не было, а продавщица, как водится, дала сорок минут сроку.
Я вбежал во двор дома Шварца вслед за чьей-то «Победой». Как тут же выяснилось, в «Победе» приехал он сам. Машина плавно развернулась, и Шварц в дохе и круглой меховой шапке тяжело вылез наружу. Меня он не заметил. Я зашел сбоку и сказал скороговоркой, понизив голос:
— Евгений Львович — остается двадцать минут — пишущая машинка — тысяча семьсот!
Конечно, Шварц оценил мизансцену. Картинный разворот машины, богатая шуба — всё это был чистый театр, внезапное богатство в последнем акте, ибо Евгений Львович всю жизнь боролся, если не с нуждой, то с бедностью. Деньги появились поздно. Машина и доха были куплены лишь по настоянию Катерины Ивановны.
Оценил он и мою скороговорку. Дерзость тоже была вполне театральной и требовала такого же ответа.
Шварц не обернулся. Вынул из кармана пачку денег — ехал он из банка, где в то время получали какие-то виды гонораров — неторопливо отсчитал, сколько, следовало, и отдал через плечо. А затем, так и не обернувшись, внушительно проследовал в подъезд.
Через полчаса пишущая машинка стояла на его рабочем столе, для обозрения. Евгений Львович сказал Катерине Ивановне:
— Как приятно, что куплена нужная вещь. Для работы.
Потом повернулся ко мне:
— А ведь я был уверен, что вы берете на пропой.
——
На Посадской за чаем весьма самоуверенная кинорежиссерша рассказывала о всякой всячине. В том числе о необыкновенно тяжелом фурункулезе, постигшем ее перед войной.
Шварцу в тот вечер нездоровилось. К тому же Катерина Ивановна наливала гостям вино, а ему — безалкогольную вишневую плазму. Разговор о фурункулезе ему совсем уже не понравился. И когда гостья сообщила, что ее, по счастью, вылечил знаменитый Бадмаев и взял всего сто пятьдесят рублей, Евгений Львович участливо заметил:
— В самом деле, дешево. Это выходит — по рублю за фурункул.
И гостья надолго умолкла.
——
Я ловил и рассказы окружающих о Шварце. Любые подробности. Художник Миней Ильич Кукс зашел однажды к Евгению Львовичу на комаровскую дачу. Вместе они отправились через дорогу в магазин: врачи прописали Шварцу лекарство, которое полагалось принимать на водке. Маленьких бутылок в магазине не оказалось, купили пол-литровую. Евгений Львович истово проделал лекарственную процедуру, на что водки ушло десять капель. Потом поднял бутылку, посмотрел на свет и предложил:
— Допьем остаток?
За разговором они остаток и допили — благо Катерина Ивановна уехала в город — и тут же уснули глубоким сном до самого вечера.
——
В послевоенные годы Евгения Львовича, случалось, приглашали на беседы в Большой дом (так в разговорах называли ленинградское управление КГБ). Приглашали и Минея Ильича. После одной такой беседы они встретились у выхода, и Евгений Львович сказал задумчиво:
— Не понимаю, что им от нас нужно? Всё как будто в порядке. Две хорошие русские фамилии: Кукс и Шварц.
——
Однажды в присутствии Шварца кто-то не слишком уважительно отозвался о Чехове.
Шварц переменился мгновенно. Лицо побледнело, речь стала особенно отчетливой. Глядя на невежду в упор, он проговорил, словно диктуя:
— Вы не умеете читать. Вам не надо читать.
——
Моя жена Наташа вспоминает, как девочкой ездила с родителями в Комарово к Шварцу. Эта поездка осталась едва ли не самым светлым и удивительным воспоминанием ее детства.
Евгений Львович, между прочим, рассказал о пьесе, которую задумал писать. Главным в ней было волшебное дерево, под которым человек не мог врать, начинал помимо своей воли говорить чистую правду.
До чего же не хотелось героям пьесы под волшебное дерево! Как отчаянно они отбивались, когда их туда тащили! Больше всего менялись под деревом речи тех, кто клялся, что всегда говорит чистую правду.
— Евгений Львович, если бы я писал пьесы, непременно попросился бы к вам в ученики. Но прежде ученик приносил учителю пользу: растирал краски, бегал за водкой и огурцами. А нынешние ученики только и знают, что душить учителей рукописями.
— Да,— отвечает Шварц.— И рассказывать об учителях анекдоты.
——
Эти воспоминания я отослал Алексею Ивановичу Пантелееву. Он — лучший друг Шварца, ему и судить. Вскоре пришло письмо:
«Я прочел Ваши короткие воспоминания и не узнал в них Евгения Львовича Шварца. Кроме точно запомнившейся реплики в защиту Чехова — всё неправда. У Шварца никогда не было дохи. Он не имел банковского счета. Даже играючи, в шутку он не мог бы выговорить: Я — известный писатель».
В ответном письме я поблагодарил Алексея Ивановича за прямоту. Но вступил с ним в спор:
«Всё было именно так. Евгений Львович меня поразил, это обострило восприятие, и всё существенное запомнилось точно.
Вы совершенно правы относительно дохи. Эта моя товароведческая оплошность произошла оттого, что Катерина Ивановна называла шубу Евгения Львовича именно дохой,— и я поддался воспоминанию. Имел же я в виду вообще богатое зимнее платье. Как сказано в Ваших воспоминаниях, «шуба была, что называется, богатая...»
Прилагаю постскриптум, в котором нет ничего спешного,— когда-нибудь, может быть, прочтете».
Вот некоторые места из этого постскриптума.
«Хотя мне и было двадцать три года, но внутренний мой возраст составлял тогда лет семнадцать, так я и держался. Иначе как мальчика, слегка помешанного на Байроне и Китсе, Евгений Львович меня и не воспринимал. Слова его по поводу стихов либретто «Тени» я помню совершенно четко. Он сказал их легко, между прочим, с прелестной юмористической интонацией, и в комнате мы были одни, и никакого серьезного явления я не представлял собой — а так, мальчик очень увлеченный и подающий некоторые надежды.
С покупкой машинки дело было так. В Пассаже появился один-единственный экземпляр «Оптимы» — большая новость. К машинке уже приторговывался некий полковник, и мне в самом деле было дано сорок минут на принос денег. Я звонил Бианки, Якобсон, Власову — деньги можно было получить завтра, послезавтра, через два часа, но не тотчас. Оставалась последняя возможность — Катерина Ивановна. Она сказала мне по телефону: «Евгений Львович уехал за деньгами в банк, должен скоро вернуться. Приезжайте на всякий случай, может быть, успеете». Я взял такси. Шофер бранился, потому что перед нами всё время шла какая-то «Победа» и задерживала нас. Как потом выяснилось, в «Победе» ехал Евгений Львович. Далее произошла описанная мною сцена. И молчаливая выдача денег, и фраза о «пропое» — всё точно.
При Вас Евгений Львович мог бы и не сказать какой-нибудь фразы. Или сказал бы ее по-другому. Еще при ком-нибудь сказал бы еще иначе. Конечно, не потому, что изменил бы себе или Вам. Разные люди обращаются к разным граням одного и того же человека. Комбинация этих граней бывает неуловимой.
Мне кажется, это одна из причин, почему написанное мною Вы сочли неправдой.
Должен сказать, что к воспоминаниям вообще я отношусь как к необходимому злу. Терпеть не могу, когда вспоминают, не имея что вспомнить, когда лезут в племянники к умершему, когда длинно пишут о пустяках, когда сводят счеты и кокетничают. Бывает и хуже: не зависящие от вспоминающего обстоятельства не позволяют коснуться ни одной из действительных радостей и бед ушедшего человека. И вот мы читаем о долгих часах общения, смутно подозревая, что на эти долгие часы оба собеседника были поражены глухонемотой: никаких следов настоящего разговора».
——
В следующем письме Алексей Иванович сменил гнев на милость:
«Должен сказать, что этот постскриптум показался мне интереснее, живее, значительнее тех, специально написанных воспоминаний о Шварце, которые Вы прислали мне прежде. Всему веришь — и рублевым фурункулам мадам К., и тому как Евгений Львович и Миней Ильич лечились водкой, и двум хорошим русским фамилиям... Если к этим черточкам веселого Шварца прибавить вспышку гнева, вызванного неуважительным отношением к Чехову — получится если не готовый портрет, то очень четкий эскиз к портрету...»
Воспоминания Евгения Львовича Шварца («Телефонная книга») были изданы спустя много лет. В них я прочел несколько строк о моей матери (она как дежурный районный врач бывала у Шварца) и о себе. Получил весть из дальнего, дальнего края.
Шостакович
На открытке — почерк великого композитора, общепризнанного гения. Что же он пишет никому не известному студенту?
«Многоуважаемый Игнатий Михайлович!
Ваши переводы я получил. Отвечаю с большим опозданием, т.к. долго не был в Москве. Переводы очень хороши. Если будет время и возможность, обязательно ими воспользуюсь.
С лучшими пожеланиями
Д. Шостакович».
Получив эту открытку, я вспомнил эпизод из жизни Ромена Роллана. В молодости он испытал полное разочарование в себе и в своих силах. И вот, придя домой в расположении духа, близком к самоубийству, он нашел письмо — от Льва Толстого. Роллан еще раньше послал Толстому отчаянную исповедь и забыл об этом, настолько не надеялся получить ответ. Но получил — длинное, участливое, ободряющее письмо.
Лев Толстой отвечал на все письма, ответил и неизвестному французскому студенту.
Роллан воспрял духом, и дела его пошли на поправку.
О милых спутниках
Конечно, это стихи Жуковского:
О милых спутниках, которые нам свет
Своим присутствием животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
Переводчик стихов, как всякий литератор, живет не от года к году, а от книги к книге. Выход книги — как холм, на который ты долго и терпеливо взбирался, и с которого теперь видишь новый отрезок дороги, до следующего холма.
Идти трудно, но ты не один. Тебе помогают те самые спутники, о которых говорит Жуковский: начиная от родителей и круга их знакомых, от первых школьных учителей, от друзей детства и юности.
И хотя книга эта — не мемуары, как не вспомнить и не назвать хотя бы некоторых помощников в пути — из тех, кого я еще не назвал.
Отец, Михаил Игнатьевич Ивановский. Разговор с отцом для меня, мальчика,— редкое счастье, потому что он всегда, вечно занят. Ему приходится преподавать в четырех институтах, потому что тридцатые годы для нашей семьи — трудные годы. Его не призовут на войну, но во время блокады он будет дежурить на крыше Лесотехнической академии — сообщать по телефону, куда падают бомбы и снаряды — получит воспаление легких, скажется голодное истощение, и в девять лет я останусь без отца.
Мать, участковый врач с блокадных времен. Врач школы Ланга, который учил прежде всего вниманию к больному. Она жила на своем участке, и вот — мы идем с ней, о чем-то разговаривая, и вдруг она останавливается: «Погоди-ка, у меня тут есть одна пневмония, должен быть кризис». Поднимается по лестнице, а навстречу уже бегут родственники больного: «Мария Владимировна, а мы не можем дозвониться до поликлиники. У него температура — сорок!» Мать успокаивает родственников: «И должно быть сорок». Редкая ночь проходит без тревожного звонка: мать отправляется по ночной улице к больному, хотя совсем не обязана это делать, а кто-нибудь из домашних ее провожает.
Илья Кукс, мой первый и лучший друг на всю жизнь, первый читатель моих первых стихов, а потом и переводов. Мы подружились в девятом классе, и дружба была необычайно требовательной. Как мы оба, втайне один от другого, боялись потерять эту дружбу! Сколько книг перечитали, чтобы не ударить в грязь лицом друг перед другом! В непримиримых спорах мы издавали, тиражом в один экземпляр, рукописный журнал «Современник» — к ужасу наших родных, ибо Лаврентий Павлович Берия только и ждал подобного подарка: был бы подпольный журнал, а создать вокруг него процесс с длинными липовыми списками читателей и единомышленников — дело привычное. Родители, учителя, соседи по лестнице, продавщица в магазине канцелярских принадлежностей, продававшая бумагу, на которой делался журнал — подельников набрался бы целый тюремный вагон.
Мой первый редактор — Галина Владимировна Антонова. Она делала, казалось бы, обычное для редактора Детгиза дело — издавала книги моих переводов. Но каких ей это стоило трудов, знает только она сама — ведь классические поэты и народные баллады далеко не всегда соответствовали тогдашней политграмоте. Внешне как будто соответствуя официальной системе, Галина Владимировна принимала ее давление на себя, и система оказывалась перед ней бессильной, пробуксовывала,— столько ума и мягкого такта было в ее защитных построениях. Спасши одну рукопись, она тут же переходила к спасению другой. На прием к ней я шел, как на праздник, но праздник с большими трудностями,— я был молод, передо мной была красивая, цветущая, счастливая в замужестве женщина, и, конечно, я был втайне влюблен.
Художники: Александра Николаевна Якобсон, Борис Власов, Александр Сколозубов. Разных поколений, по-разному талантливые, они имели нечто общее: высочайшую культуру, некогда свойственную ленинградской графике. Мыслители, своим особенным мышлением проникающие в рукопись насквозь. Вечно живущие в одном пространстве с мировыми гениями изобразительного искусства, они были не иллюстраторами текста, а полноправными соавторами.
Было у них решающее отличие от нынешнего спекулятивного авангардизма: любовь и, значит, подлинный интерес к окружающему миру, как это было у старых мастеров, и как должно быть в любую эпоху. Создание изображения, достойного этого мира, требовало пожизненного каторжного труда, и я то и дело видел: глаз художника не способен отдыхать, он вечно примечает.
Читатели. Не боясь быть назойливым, я часто читал свои переводы самым разным людям — рафинированным деятелям культуры и деревенским знакомцам, старикам и совсем юным, оптимистам и ипохондрикам. По отношению к некоторым постоянным слушателям вел себя, как телефонный террорист,— да простят меня Ольга Александровна Ладыженская, Елена Николаевна Монахова, Евгения Оскаровна Путилова, Софья Мстиславовна Толстая, Наталия Ивановна Толстая, Татьяна Николаевна Ульянова, Тамара Васильевна Чиркова, Леонид Матвеевич Аринштейн, Александр Моисеевич Володин, Иван Михайлович Стеблин-Каменский, Никита Алексеевич Толстой и другие терпеливые собеседники. Им я обязан духовной поддержкой, целительной прямотой высказываний и неожиданными меткими замечаниями.
А вот назвать случайных помощников, иногда еле знакомых или даже анонимных — я не в силах. Потому что литератору помогает сама жизнь — во всех ее проявлениях.
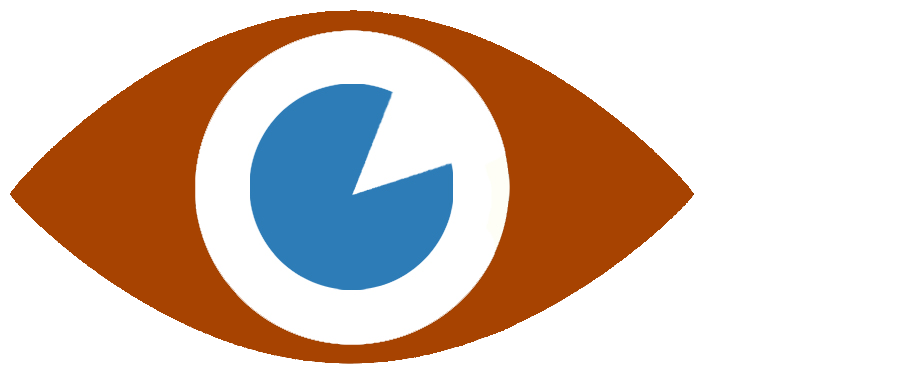 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих