Воспоминания провинциального музыканта
А. Н. Захваткин
Город Киров, каким он помнится в детстве и в несколько более позднем возрасте
У многих людей во все времена есть склонность хвалить прошлое и ругать настоящее. По этому поводу можно проводить целые исследования, цитируя высказывания знаменитостей. Одно из них принадлежит Вольтеру из его «Философского словаря»: «Человек всегда жаловался на настоящее и восхвалял прошлое. Люди, обременённые трудами, видели счастье в безделье, не понимая, что самое худшее состояние – это состояние человека, которому нечего делать, они нередко чувствовали себя несчастными и рисовали картину таких времён, когда были счастливы все».
За доказательствами ходить далеко не надо, ибо они ждут нас на каждом шагу. В коридоре люди часто вступают в споры о том, как раньше всё было дёшево, как всё было натурально и без вредных консервантов, как хорошо жили при социализме. В своих дискуссиях они блуждают от одного выдернутого из контекста факта к другому. Но им в большинстве не свойственна склонность к серьёзному исследованию в комплексе. А оно позволило бы всё-таки выявить, какой огромный путь с конца сталинской эпохи – от убогости к прогрессу – прошёл наш город Вятка (Киров), несмотря на клубок вечных и неразрешимых проблем.
Конечно, в Кирове делали танки (и далеко не только танки) во время войны, что в этом тыловом городе жили люди, героически работающие на Победу. Я отмечаю тот факт, что всё тоталитарное государство и до войны и после неё работало на тяжёлую индустрию, на военно-промышленный комплекс, а не на потребности населения, как, впрочем, и на культуру, на которую оставались жалкие крохи бюджета. В хрущёвские времена был не очень значительный поворот к человеку, хотя бы на словах и немножечко на деле.
Помню родной город с раннего детства (до середины пятидесятых годов он делился на три района: северная часть – Сталинский, центр – Ждановский, южная часть – Молотовский). Родившись в 1945 году и осознавая себя прилично лет с четырёх-пяти, самые первые мои впечатления связываю с улицей Свободы (историческое название – Царёвская) и двумя домами под № 77. Двор был общим с каменным домом, выходящим фасадом на проезжую часть улицы. В одном из них, который в глубине двора, я жил до лета 1961 года. Меня, маленького, часто прогуливали по тротуарам этой улицы, которые были тогда деревянными, оставшимися чуть ли не от дореволюционной Вятки. Такие же тротуары были положены и по улице Дрелевского (ныне Спасская), где я тоже появлялся, ведомый кем-нибудь за ручку. Однако они уже тогда порядком износились, и часто, наступив на один конец доски, человек мог провалиться в яму, а второй конец, таким образом, мог вздыбиться и чуть ли не срикошетить по прохожему. Где-то к 1953–1954 году деревянные тротуары постепенно ликвидировали и потихоньку стали класть асфальт.
Зимой же меня катали в деревянных деревенских санях, так как иных не было. Видимо, их купили на рынке, который раньше находился на месте пятиэтажки с замечательным магазином «Континент» (сейчас, к сожалению, это более скромная «Пятёрочка», а прежде было кафе «Комета»). Там же покупали ёлки на Новый год. Чуть левее, напротив взорванного Александро-Невского собора и не существовавшей тогда филармонии, находился зверинец. Он был летний, а зимой не работал. Детские воспоминания проявляются лишь насчёт обезьян породы макака. Однажды во время пожара ряд животных пострадал: одна мартышка погибла, а павлин сильно опалил хвост. Событие это широко обсуждалось среди соседей и родственников.
Мостовая моей улицы Свободы была выложена булыжником. Её иногда ремонтировали, привозя на лошадях новые камни и, вероятно, песок. Рабочие сидели на коленях и не без помощи кувалд укладывали поверхность проезжей части. По мостовой чаще всего ездил гужевой транспорт, так как автомобилей в те времена было очень мало. Редкие «эмки», трофейные немецкие легковушки и уж совсем единичные ЗИС-101. Время от времени тишину нарушали грузовики ГАЗ-АА (полуторки) и ЗИС-5, которые, надрываясь, везли кубометры дров. Брёвна пилили и кололи сами жители. Мой отец обыкновенно нанимал людей, так как сам он был уже немолодым, однако имел средства расплатиться с ними.
У всех семейств были свои дровяники, которые, в основном, и предназначались для хранения дров. Естественно, что тогда в деревянных домах и речи быть не могло о центральном отоплении. На каждом этаже была общая русская печь. В ней пекли пироги и другую стряпню, а одна из соседок коптила свиную тушу. У каждой семьи была своя «голландка» – маленькая печка для отапливания собственного жилья в холодное время года. Отец иногда в ней готовил еду, ставя туда, как он называл, плошку (гусятницу) для жаркого. Особенно часто он тушил баранину с картошкой, которую пытался скармливать мне.
Но я больше любил не столько есть его блюда, сколько наблюдать, когда он разжигал поленья при помощи берёсты, и особенно, когда процесс топки заканчивался. Именно на её последнем этапе разбивались догорающие головёшки при помощи кочерги (родители её называли клюкой), а из открытой печки шло вожделенное тепло. После окончания процедуры необходимо было на время открыть печную заслонку, чтобы угарный газ вышел на улицу и не поступал в квартиру. Нередко бывали случаи, когда это забывали сделать и люди угорали. Слава Богу, смертных случаев не помню, хотя они могли быть.
Существовала на моей памяти и профессия трубочиста. Не раз к нам приходили очень чумазые мужчины, которые выскребали сажу из печной трубы в чёрное ведро с одной плоской стороной, приставляемой к побеленной стенке печи.
Сам дом принадлежал до революции домовладелице М. Н. Котлецовой и был оштукатурен, имел богатый орнамент. Он большей частью ещё сохранился до сих пор. (Говорят, что дом когда-то хотят отреставрировать). Мы жили на втором этаже. На нём так же, как и на первом, была общая кухня. На ней было четыре столика, принадлежавшие каждой семье. На столах стояли нагревательные приборы – примусы и керосинки, на которых готовили не только супы и вторые блюда, но и кипятили бельё в оцинкованных бачках, чтобы впоследствии его прополоскать.
Нередко в кухне вспыхивали перепалки между соседями. Они касались, естественно, бытовых неурядиц. На пользование русской печью в предпраздничные дни устанавливалась очередь. Однако со временем ссоры затихали, и соседи угощали друг друга своими ватрушками, шаньгами, пирогами...
На дворе также возникали конфликты и между двумя домами. Первое впечатление детства – страшная перепалка двух соседок на махровом вятском диалекте. Они так быстро тараторили, что я ничего не понимал. Постепенно к вятскому говору я стал привыкать. Часто яблоком раздора были и домашние животные. Например, гоняли куриц, которые рылись на, якобы, чужой территории, кто-то обидел соседскую кошку; доставалось родителям и за проказы их детей, попавших мячом или (зимой) замороженным лошадиным навозом в окно. Дело в том, что в послевоенные годы не было в магазинах шайб или хоккейных мячиков, поэтому мальчишки сами мастерили клюшки, а «шайбы» валялись на каждом шагу.
Во дворе летом, конечно, было много зелени, прежде всего, из-за густой травы и беспорядочно растущих деревьев. Напротив соседского дома стояли три огромных тополя, на которых вили гнёзда грачи. Под нашими окнами был садик, где сооружали цветочные клумбы. Особенно популярны были к середине 50-х георгины разных расцветок и конфигураций. Их клубни хранили зимой дома, а весной высаживали в землю. Росли также анютины глазки, флоксы, астры, декоративная осока и неизменный золотой шар.
Но, как это часто бывает, прекрасное соседствовало с безобразным. На пригорке общего двора в 30–40 метрах от клумб располагалась… помойка. Ею пользовались оба дома. В неё, естественно, сбрасывались все отходы. При соответствующем направлении ветра она издавала запашок. Время от времени её чистили.
В обоих домах были тёплые туалеты с унитазами, которые отнюдь не блестели от чистоты. Но на всякий случай существовали и холодные «клозеты»: вдруг воды не будет или унитаз треснет. Поэтому у каждого дома была сливная яма, которую также чистили другие ассенизаторы из так называемой конторы очистки. В народе их звали ещё и золотарями. Они ездили на бочке, запряжённой лошадью.

Троллейбус на ул. К. Маркса
Изначала кругозор мой (в 4 года) был сужен 2–3-мя кварталами. Направо вдали я видал пожарную каланчу, а налево – улицу Коммуны (Московскую). По ул. Дрелевского папа меня водил до К. Маркса, и я смутно запомнил старую из красного кирпича Вятскую электростанцию, которую позднее надстроили и превратили в здание «Кировэнерго». Кстати, на этом перекрёстке был повешен один из первых в городе светофоров. Сам светофор переключался вручную (по обстановке) милиционером, сидевшим в будке на углу. Году в 52-м отец, гуляя со мной зимой, подвёл меня к той самой будке и решил развлечь:
– Товарищ милиционер, покажите моему сыночку переключение цветов на светофоре.
Милиционер согласился, ибо на перекрёстке автомобили появлялись чрезвычайно редко, и было время «побаловаться».
– Зажгите зелёный, пожалуйста.
Зажигался зелёный. Отец мне разъяснял о возможности по этому цвету транспорту пересекать перекрёсток. Далее демонстрировался жёлтый и красный с разъяснениями моего родителя. Первые единичные светофоры с автоматическим переключением начали внедрять году в 1954-м.
Водили меня и в сад «Аполло», или Детский парк. Там были качели, столбики разной высоты – для перепрыгивания с одного на другой, гигантские шаги. Кроме того, деревянная сцена и старый деревянный кинотеатр. Однако последнее сооружение было аварийным, и в него перестали пускать любопытных детей. Вскоре его снесли.
Довольно дальнее путешествие с обоими родителями – Центральная баня. Мы шли до неё по улице Герцена и по переулку Герцена (Копанский переулок сейчас восстановил свое прежнее название). Родители там покупали номер с ванной и душем. Мать брала с собой эмалированный таз и простыню, чтобы я сидел не на голой каменной скамейке и моё тельце было защищено от чужих микробов. Из банных тазов мылись только родители. Я же валандался в своём тазу. Номером можно было пользоваться не больше часа. По истечении 50 минут в дверь стучали деревяшкой, а, если была задержка со стороны клиентов, то стучали громче, стук нередко сопровождался бранью.
Но основная масса населения пользовалась общей баней. В неё бывали длинные очереди, особенно накануне выходных. Стояли порой по два, а то и по три часа, ибо тогда в Кирове были только три бани: Северная, Центральная и Южная.
Но самый далёкий маршрут для меня был поначалу до бабушки с дедушкой и тёти Сони с мужем, которые жили на улице Степана Халтурина (Пятницкой), 85-а. Я осознал этот путь несколько позднее. Он проходил по ул. Свободы, сворачивая на ул. Коммуны, через Театральную площадь, далее К. Либкнехта и налево полквартала по Халтурина до трёх домов под № 85. По большей части пути улицы представляли собой ряд деревянных одноэтажных, реже – двухэтажных домов. Нередко у домов были палисадники, где росла сирень, акация, а также незабываемые жёлтые цветы – золотой шар. Мостовая улицы Халтурина была грунтовая, и во время дождей здесь наблюдалась непролазная грязь, как в полуглухой деревне.
У бабушки с дедушкой, которые жили от улицы в третьем одноэтажном доме, было два сада. Один из них, маленький, с белой сиренью, кустарниками и цветами (много колокольчиков), располагался под окнами дома. Другой сад, в глубине двора, был довольно большой. В нём росли две яблони, несколько вишен, чёрная, красная и белая смородина, крыжовник, а также акации и цветы, в том числе душистый табак. Сад упирался в забор, за которым был детский садик, а за ним – улица Розы Люксембург. В саду был слышен гул станков кордной фабрики (позднее – текстильный комбинат), где раньше была тюрьма политических заключённых. В тёплый день в саду от благостного сочетания буйной растительности и приглушённого «звучания» текстильного производства у меня от необъяснимого удовольствия бегали мурашки по всему телу.
Помнится, возвращаясь домой с мамой от бабушки, в горку, мы шли мимо вновь построенной пятиэтажной «сталинки» на улице К. Либкнехта, среди массы деревянных домов, а из уличного радио звучала песня Б. Мокроусова «Сормовская лирическая». При переходе через Энгельса я впервые осознал слова этой песни: «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем посёлке подруга живёт…» Песня, кажется, очень нравилась мне своей загадочностью и искренней теплотой. На ряде зданий и на деревянных столбах были прикреплены большие репродукторы, из которых слышались как патриотические, так и лирические песни советских композиторов. Иногда звучала популярная классика, вроде «Вальса-фантазии» Глинки. И, конечно же, читались перед очередными праздниками 7 ноября и 1 мая лозунги-призывы от КПСС, а также важные правительственные сообщения.
На Театральной площади ещё было не так, как сейчас. Перед драмтеатром после войны был разбит сквер, деревья которого в начале 50-х были совсем небольшими. Политеха не было. Вместо него стояла длинная одноэтажная деревянная постройка, где был травммедпункт, а левее, напротив художественного музея, находилось красное здание, бывшая водолечебница (до революции), позднее – поликлиника Ждановского района
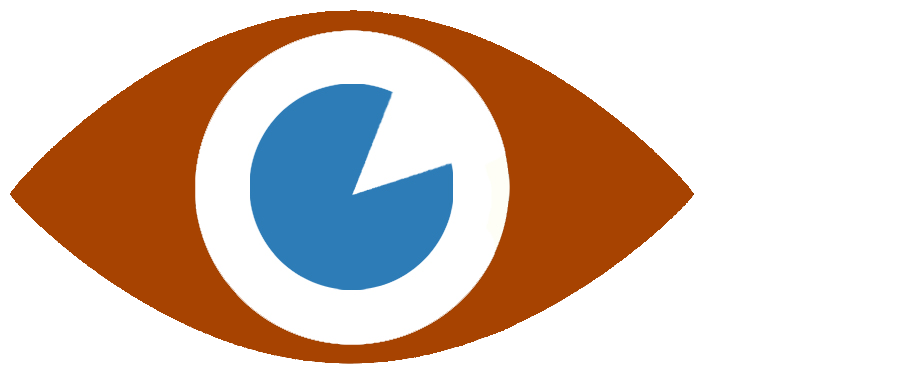 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих