Война детскими глазами
В. А. Чугунов
Начало. Немецкая оккупация
(1941–1942 гг.)
Войну я помню с лета 1941 г., с июля или августа. Я был у бабушки в деревне и о войне я ничего не знал до тех пор, пока за деревней не сел самолёт с одним лётчиком, и все побежали туда. Меня туда не отпустили. Самолет сразу улетел, и все говорили только о нём.
Потом стали слышны вначале далёкие, глухие, а потом всё более отчётливые взрывы. Это стреляли пушки. В деревне матрасами и одеялами стали закрывать окна в домах, потому что от грохота орудий стёкла неимоверно звенели. Говорили, что это идут бои за станцию железной дороги (потом я узнал, что по большаку до станции 18 км, а напрямую, лесом – 12).
На какое-то время в деревню заходила наша конница. Помню, что во дворе бабушкиного дома стояло вплотную друг к другу много лошадей. Когда Красная Армия стала отступать, нам оставили маленького жеребёнка, мясом которого бабушка кормила нас: меня, моих двоюродных брата Колю и сестру Лиду.
Ещё до прихода немцев в деревню все стали рыть себе землянки. За нашим огородом землянку рыл Коля вместе с Игорем Корниловым, внуком нашей родственницы. Это далёкие потомки В. А. Корнилова. Потом, когда шли бои и деревня раза три-четыре переходила из рук в руки, эта землянка стала убежищем для шестерых (нас и Корниловых).
По-настоящему приближение немцев почувствовалось, когда магазин (сельпо) на Новом остался без власти: бери всё, что хочешь, бери просто так и неси домой. Лида, ей тогда шёл 14-й год, принесла бабушке несколько глиняных крынок.
Немцы въехали в деревню на мотоциклах со стороны большака. Я в это время играл на крыльце с большими коробами из-под папирос и сигарет. Помню, как мне нравился запах от тех коробок. Он был такой приятный, бархатный, нежный. Мотоциклистов было много, целая колонна. Они проехали куда-то мимо нашего дома. Я спал в ту ночь на печке, хотя у меня была своя, детская кровать, которая всегда стояла в большой половине бабушкиной избы. Глубокой ночью, в темноте просыпаюсь от какого-то шума, топота сапог и криков: «Матка, яйки! Матка, млеко!» Всё было точно так, как потом показывали в кинофильмах, писали в книгах, газетах и журналах.
Началась немецкая оккупация, которая продолжалась около полугода, до конца января 1942 г. О том, сколько времени я был в оккупации, мне пришлось специально узнавать потом, в 1954 г., для мандатной комиссии Института международных отношений. Пройдя три отборочных собеседования (Василеостровское районное, Ленинградское городское и ещё какое-то), я не был включён в окончательный список допущенных к вступительным экзаменам в МГИМО. Наверное, из-за того, что я был в немецкой оккупации…
Нас в доме было четверо, немцы у нас не жили. Зато через дорогу, напротив нашего дома, у Анны Ивановны Корниловой, немцы стояли. К нам иногда приходил один офицер – поговорить с Лидой по-немецки.
Из времени оккупации запомнился случай. Все мы (бабушка, Лида и я, Коля, возможно, скрывался от немцев в бору) должны были идти в немецкую комендатуру. Хорошо помню, что к косяку входной двери, ближе к порогу, штыком был приколот мёртвый красноармеец в сапогах, шинели и зимней шапке. В комендатуре что-то записывали про каждого человека.
О том, как мы жили при немцах, ничего не помню. На выставке в городской библиотеке имени Пушкина, я видел книжечку «Как мы жили при немцах», изданную в Кирове. В начале войны Детгиз и некоторые управления Наркомпроса РСФСР были эвакуированы в Киров. Недавно эту книжку мне удалось подержать в руках и прочитать.
…Идут бои. Стрельба. Грохот пушек. Ревут самолёты. Разворачиваются танки. Треск пулемётов. Свистят пули – а мы в землянке. Снег для воды всегда набирал я: подползал к краю лаза и быстро-быстро, чтобы не убило пулей, горстями кидал снег либо в кастрюлю, либо в таз – и обратно в землянку.
Когда немцы начали отступать совсем, они бегали с горящими факелами и поджигали каждый дом. Сгорела вся деревня, кроме одного дома. Как я узнал потом, почти через сорок лет, в этом доме у немцев был оставлен какой-то наводчик.
Ползком по глубокому снегу, в за-реве пожарища, охватившего всю деревню, моя бабушка пробралась к нашему дому, выпустила на улицу корову Гражданку, успела вытащить семь овчин (овечьих шкур, благодаря которым мы потом спасались во все военные годы), швейную машинку «Зингер» и мою кровать. Кот Маркиз сгорел в избе.
Всех жителей деревни немцы гнали впереди себя. «Шнель, шнель!» – только и слышалось по сторонам. Нас гнали мимо бывшего барского дома Воронцовых (в то время – школы-семилетки), мимо барских же погребов, амбаров, конюшен, винного завода – на большак. И дальше. Куда? Неизвестно. Либо в плен, либо просто в заложники. Два больших штабеля убитых немцев мне запомнились навсегда. Шли долго. Весь большак был запружен нескончаемым потоком людей, повозками, санями, пушками, лошадьми. Всё это обгонялось танками, грузовиками. По обочинам дороги валялась разбитая техника, наша и немецкая. И всюду – трупы, трупы... Время от времени пролетали чьи-то самолёты, но бомбежек не было. Бабушка знаками упросила какого-то немца посадить меня в сани, а сама встала на запятки. (Я забыл название той деревни, куда нас пригнали поздно ночью, но потом узнал, что мы прошли километров шесть-семь. Бабушке было 72 года, мне едва пять с половиной). Не знаю, как остальные, кто был в этом бесконечном потоке техники, людей и лошадей, но мы оказались в какой-то избе. Только что эту избу оставили немцы, они топили печь так сильно и, видимо, так долго, что от жары прогорела её задняя стенка и стала тлеть стена самого дома. Как выяснилось, немцы стали бросать всё и уходить. Началось наступление советских войск. Наша неволя закончилась. Но возвращаться обратно было некуда. Остались одни пепелища...
А война еще только начиналась. Впереди было три с половиной года до её окончания и до моего возвращения в Ленинград.
У моего двоюродного брата Коли Иванова был детекторный радиоприёмник, который он привёз с собой в деревню из Ленинграда в июне 1941 г. на время летних каникул. Передачи по нему можно было слушать только в наушниках. Без них ничего слышно не было. Приложишь наушники на уши и начинаешь слушать. Я часто лежал на печке с этим приёмником и наушниками и слушал, что говорят.
Но вот однажды Колиного приёмника не стало, он его куда-то сдал. Говорили, что раз идет война, слушать радио нельзя, а поэтому все, кто имеет приёмники, должны их сдать. Куда и кому, я этого, конечно, не знаю.
Ещё вспомнил про листовки с самолётов, их было много, они белели везде, по всей деревне. Помню, как они летали в воздухе, когда их разбрасывали. Почему-то все боялись поднимать их и читать. Листовки сбрасывались с самолётов, когда стояла тишина, и не было никакой стрельбы; видимо, перед боями.
Те листовки мне вспомнились через 10 лет, в 1951 г., когда наш отряд пионерского лагеря Балтийского завода в посёлке Кезево, вблизи станции Сиверская, во время «кругосветки» (пешего похода вокруг Сиверской) наткнулся на немецкие оккупационные газеты на русском языке. Их тоже нам не разрешали брать в руки и читать.
…Наша деревня называлась Новой, причём маленькой Новой (Маленькое Новое), в отличие от другой Новой – большой (Большое Новое), где были Новская неполная (то есть семилетняя) школа (в бывшем доме помещика Николая Кронидовича Воронцова), правление колхоза «Новый путь», медпункт, деревенская лавка (сельский магазин), бывший барский сад с пчельником, винный завод, постройки первой в России школы молочного дела, основанной в 1820-е годы. На всех трёх въездах в Большое Новое были сооружены баррикады из дерева, кирпича и песка, а дорога у пруда за винным заводом была перекрыта большими треугольными камнями (надолбами) – от танков. После того, когда бои у нас прекратились, и война куда-то отошла, баррикады ещё долго стояли, их объезжали и обходили, а надолбы сдвинули на обочины дороги, чтобы можно было проезжать.
А ещё, помню, что колхозных коров угоняли куда-то далеко. Говорили, что в Вологодскую область, только вряд ли так далеко, скорее всего, куда-то ближе, в другие районы Калининской области, где не было немцев. Обратно коров пригнали однажды ясным солнечным днём. Все вышли на улицу встречать стадо. В деревне был настоящий праздник. Погонщиков – пастухов, скотников и доярок – встречали как героев. Да они и были героями: гнать скот за многие километры от дома, в чужие места было подвигом, скот был сохранён.
В нашей местности, а это был когда-то Старицкий уезд Тверской губернии, бань не было. Люди мылись в избах, перед печками, воду грели в самоварах, а парились в печах. Печи были большими. Мы с бабушкой вдвоём свободно сидели в своей печке, и бабушка парила меня берёзовым веником.
Когда немцы сожгли нашу деревню и стали отступать, а нас гнали на большак, вдруг наперерез нам, прямо по снегу, с рыданиями, вся в слезах, выбежала жена одного старика, Егора. Она плакала и кричала, повторяя одно и то же: «Егор сгорел! Егор сгорел!» Оказывается, в то самое время, когда немцы поджигали деревню, Егор парился в своей печке, ничего не зная о том, что происходит, и сгорел заживо вместе со своим домом, как у нас вместе с домом сгорел кот Маркиз. В память того Маркиза, который сгорел в январе 1942 г., почти всех котов, какие бывали у меня после него, я звал Маркизами. И вообще стал любить всех кошек.
Мой двоюродный брат
Коля Иванов (1924–1942 гг.)
От брата у меня хранится его фотоаппарат «Фотокор», несколько чёрных металлических кассет для фотопластинок к нему, пять фотоснимков, сделанных им на этом «Фотокоре», и похоронка на Колю, убитого в боях под Ржевом 29 августа 1942 г.
Коля был старше меня на 12 лет. Когда я появился в семье Ивановых (после того, как остался без родителей), Коле было 14 лет, а мне два года. Я помню, хотя и очень смутно, будто бы сквозь очень давний сон (ведь прошло с тех пор более 70 лет!), как Коля фотографировал нас вдвоём с соседским мальчиком Кирсановым в нашей комнате на 11-й линии Васильевского острова. (Сама фотография не даёт забыть о том, что это на самом деле было).

Двоюродный брат Николай Петрович Иванов (1924-1942 гг.)
Но больше всего запомнилось, как Коля катал меня по улице на велосипеде. Посадит меня впереди себя на раму, обхватит руками, чтобы я не упал, и катит по 11-й линии, а потом по Большому проспекту. Лет десять тому назад, от своей сестры Ани (тоже двоюродной, как и Коля) я узнал, что Коля, когда я стал жить у них, ходил в школу с двумя портфелями: своим и Аниным. Аня отводила меня в детский сад, который находился на углу то ли 17-й, то ли 19-й линии и Среднего проспекта, а школа была на Набережной имени лейтенанта Шмидта (потом она стала и моей, 31-й, куда я ходил 9 лет). Со мной, двух-, а потом трёхлетним, Ане было бы тяжело ходить с портфелем. Поэтому ей помогал Коля и носил её портфель из дома до школы. Когда Аня заходила в класс, на парте уже лежал её портфель.
У Коли было много друзей. В Ленинграде это был его одноклассник Андрей Крюгер. Он жил на 8-й линии в доме, где висела мемориальная доска: «Здесь жил Председатель ЧК М. С. Урицкий». Андрей погиб на войне, но как память о нём и о Коле осталась книга сочинений А. С. Пушкина 1902 г. издания «Т-ва М.О. Вольф». Коля не успел её вернуть Андрею из-за того, что началась война. Книга пережила Ленинградскую блокаду, её не сожгли в буржуйке, несмотря на то, что люди умирали от холода и голода. (В каждой из 4-х комнат нашей коммунальной квартиры в блокаду умерли, где один, где два человека. В январе 1942 г. умер от дистрофии и отец Коли, мой дядя, Пётр Иванович Иванов, родственник М. Н. Румянцева – клоуна Карандаша, а также недавнего вице-премьера). После войны, во время своих зимних каникул, начиная со второго класса и до пятого, я собирал книгу сочинений Пушкина по листочкам, по всей квартире, склеивал и сшивал её, как мог, переплетал, а Валя Мошкович, с которым мы дружили в младших классах, помогал мне восстанавливать утраченные листы заголовков – разделителей разделов книги.
Из родственников ближе всех к Коле был Женя Васильев, его ровесник и наш общий троюродный брат, больше всех нас походивший внешне, особенно голосом, на С. Я. Лемешева, нашего дальнего дядю. Женя воевал и вернулся домой с войны без ноги.
В деревне Коля дружил с нашим тоже дальним родственником Игорем Корниловым и соседом через два дома Сергеем, сыном плотника и кузнеца Степана Степановича. Когда к нам приближалась война, многие стали задумываться: «А не лучше ли уехать в Москву?» Сергей собрался и уехал в столицу. Его Степан Степанович отпустил, а вот нашего Колю бабушка в Москву не отпустила, за что потом корила себя всю жизнь: «Отпусти я его тогда в Москву, может быть, и остался бы жив». Сергей остался живой и пришёл с войны. Правда, вернулся он не в деревню, а в Ленинград, жил на кольце трамваев 4-го маршрута.
То ли из плена, то ли из заложников, то ли просто из беженцев – не знаю, как правильнее сказать – мы вернулись сразу же, на другой день, как только немцы ушли. Кто занимался нами, я не знаю. При немцах была комендатура, но тот дом, где она размещалась, сгорел, как и почти всё наше Маленькое Новое. Василий Алексеевич, староста при немцах, исчез: он либо ушёл с ними, либо его забрали. Но кто-то всех разместил, куда только можно было. Разместили в другой, соседней деревне Новое (на Новом).
Мы оказались в доме у Настасьи Горбицкой, бабушкиной золовки – Анастасии Максимовны. Мой дед, Матвей Максимович Волков, который утонул в Волге и похоронен на кладбище в селе Иверовском, был её братом. Кроме нас и А. И. Корниловой с Игорем, было ещё две семьи и сама хозяйка дома, всего человек 10–12. Одно время в этот же дом приходила ночевать одна женщина с детьми, их было человек 5, у которой погиб муж и они боялись у себя дома оставаться одни. Хорошо, что дом у Настасьи был просторный, пяти-, возможно, даже шестистенный, правда, без двора. И всем хватало места.
Вспоминаю, как однажды сижу на лавке возле образов в красном углу и смотрю в окно. А там большая толпа у дома Молчановых, через дорогу. О чём-то говорят, кого-то слушают. Я понимаю сейчас, что это был сбор тех, кого отправляли на фронт, а он тогда был совсем рядом, в нескольких километрах от нас.
Моё последнее воспоминание о Коле как яркая вспышка молнии на чёрном небосводе тёмной ночью – Коля уходит на фронт. Коля будит меня. Я лежу на краю печки, свесив вниз руки и голову. Коля с мешком за плечами, наверное, уже простившись со всеми остальными, подходит ко мне ближе, берёт мои руки, пожимает их, обнимает меня и говорит: «Ну, Вовка! – эти слова я помню абсолютно точно. – Я пошёл, до свидания, оставайтесь здесь, слушайтесь бабушку». И он ушёл. В бессмертие... Через полгода бабушка получила известие: «... Ваш внук, радист, погиб смертью храбрых...»
Коля ушёл на фронт добровольцем. Его любимые песни – «Орлёнок», «Там, вдали, за рекой», «Тачанка», «Ехали казаки», «Дан приказ...», «Прощай, любимый город», «Ты ждёшь, Лизавета» – стали и моими любимыми.
Лида с кем-то из своих подруг, чьи братья тоже были на фронте, раза два ходила к Коле, на передовую, с бабушкиными гостинцами из деревни...
О войне
Война в каждом доме
И в каждой семье,
Она очень многим
Запомнилась мне.
«Шнель, шнель!» – кричат немцы,
Сжигают дома
И нашу деревню
Спалили дотла.
Вот немцы уходят,
Пули свистят.
Уходит на фронт
Мой двоюродный брат.
«Ну, Вовка», – сказал он.
И обнял меня.
Я помню улыбку
И эти слова.
Наш Коля, мой брат,
Он ушёл на войну,
Когда восемнадцатый
Год шёл ему.
«Убит подо Ржевом,
Погиб как герой», –
Пришла похоронка
Под осень, домой…
Моя бабушка Анна Игнатьева
Волкова (1870–1948 гг.)
В бабушкином доме на Новом была большая икона, перед которой бабушка молилась, а все мы, особенно я, перед этой иконой трепетали. Икона висела в углу слева от входа в основную половину избы. Вытащить икону из огня, когда деревня при отступлении немцев горела, было совершенно невозможно, потому что она была такой большой, что занимала стену почти от потолка до стола и была такой тяжёлой, что бабушке было её не поднять. Икона погибла…
В июне 1991 г. во время своей командировки в Калининскую область (сейчас она, как и до революции, стала опять Тверской), я решил навестить бабушкину племянницу, мою двоюродную тетю – Марию Ивановну Фёдорову, тётю Маню. Ей шёл тогда 89-й год. У неё в деревне Толмачёво, в двух с половиной километрах от Нового, была икона 1890-х годов, которую тётя Маня решила мне отдать на память. Перед этой иконой моя бабушка всегда молилась, когда приходила к тёте Мане по своим делам. Икона писалась с бабушкиного брата Ивана с женой и его, стало быть, и моей бабушки, матери, то есть моей прабабушки. Оклад и раму от иконы я оставил в Толмачёве, а саму икону привёз к себе в Киров, и сейчас она напоминает мне о бабушке.
Бабушка спасла нас с Лидой в войну. Она нас обогревала, одевала, обувала, кормила, но ведь у неё и самой ничего не было. Всё сгорело. Нам помогали люди. Помог и колхоз. В колхозе оставались кое-какие запасы зерна, которые, не знаю каким образом, удалось сохранить и от немцев, и от растаскивания людьми перед их приходом. Зерно выдавалось по едокам. Его мололи вручную на самодельных жерновах из толстых деревянных чурок с вбитыми в них железками. Помню, как это было тяжело, долго и очень надоедливо. Крутишь-крутишь, устанешь, не можешь, а всё равно надо продолжать. Из чего же бабушка будет печь лепёшки, если не из этой муки? Кашу варили из целой ржи и пшеницы. Весной 1942 г. ходили по полю, собирали капустные кочерыжки и мороженую картошку. Картофелину из земли выкопаешь, от грязи отряхнёшь, разломишь – и в рот. До чего вкусно! Сейчас даже не верится, что так и было. А ещё соскребали остатки полугорелых зёрен в пазах между брёвен в колхозных амбарах, причём каждый собирал только на пепелище своей усадьбы. На кашу… Амбары на усадьбах оставались с тех пор, когда ещё жили единолично до колхозов, то есть с 1929–1930-х гг.
Весной, когда появилась трава, стали рвать лебеду, крапиву, щавель, что-то ещё, а потом и клеверные головки. Колоски ржи в полях не рвали: за это могли посадить. Всё шло в лепёшки и в кашу. Несколько раз я один ходил за мукой к тёте Мане в Толмачёво. Её муж, дядя Ваня, пришёл с войны по контузии и был кладовщиком в их колхозе имени Сталина. Он давал мне сметки ото ржи из амбара. Давал и мучную пыль от мешков.
Соседи Шаховы (Авдотья с сыном Павлом) варили суп из ворон. Мы ворон, к счастью, не ели. Нас кормила корова. Та самая Гражданка, которую выпустила из горящего хлева бабушка, но которую, ссылаясь на разрешение немцев, прибрал к рукам кто-то из деревни Старое. Гражданку нам с бабушкой, Колей и Лидой пришлось тоже вызволять, как нас самих из плена. «Чем докажете, что это ваша корова?» – кричали её «новые хозяева». «Гражданка», – только позвала бабушка корову, как та сразу же бросилась к нам. Мы стояли с кем-то из правления колхоза на ступеньках лестницы в их ограде, и корова опять стала наша. Траву на сено бабушка косила на своей усадьбе в той деревне, которая сгорела, и носила сено на себе в деревню, где мы теперь жили. Всегда рядом с бабушкой со своей вязанкой был и я. А туда носили навоз из-под коровы – в саквояжах, как говорила бабушка. Саквояжами она называла немецкие сумки из-под боеприпасов и их зелёные плащ-палатки. Косить траву в других местах днём было нельзя, косили только ночью, чтобы не видели. Ночами же бабушка носила траву из-под горы наверх. Можно представить, как тяжело это было. Но ещё ей ведь надо было работать в колхозе, зарабатывать трудодни на хлеб. Помню, как она ходила на колхозные покосы косить, грести, копнить, скирдовать, жать серпом рожь, теребить и колотить лён.
Тяжёлым был день, когда пришла похоронка на Колю. Я с кем-то из ребят, вроде, с Юркой Комаровым, а, может быть, и с Колей Бобковым, был в тот день в «няньках». Пришла хозяйка и сказала, чтобы я шёл домой к бабушке – с ребёнком она посидит сама. Не успел я выйти на улицу, как услышал плач, причитания со стороны нашего дома. Это рыдала моя бабушка. Она была на крыльце в окружении женщин, которые утешали её и тоже плакали. Плач ещё долго стоял над всей деревней, люди не расходились, всё жалели Колю, бабушку и нас с Лидой. Такие похоронки в деревню приходили не только на нашего Колю.
А потом бабушке выпало ещё одно испытание: мою сестру Лиду, которой едва исполнилось 15 лет, взяли в школу ФЗО в Пермь (тогда город Молотов), откуда она сбежала, за что её стали судить. Бабушке с трудом удалось защитить Лиду от тюрьмы. Но побег из Перми зимой, на крышах и в тамбурах вагонов не прошёл для Лиды бесследно. Сердце было подорвано. Она не дожила даже до 50 лет.
А война шла...
О том, что где происходило, люди узнавали друг от друга. Кто что услышит, рассказывал другому, чаще всего у колодца, когда ходили за водой. А то и просто заходили в дом рассказать какую-то услышанную новость, просто поговорить, посочувствовать. Многое узнавали от беженцев, которые шли то в одну сторону, то в другую. Тогда я, конечно, не понимал, откуда и куда они идут, а сейчас думаю, что в начале войны они шли через нас к Москве, спасаться от немцев, а потом – обратно, на запад, к своим домам. Беженцы шли по большаку или на Калинин, или на Старицу. Ходили по домам, просили поесть, предлагали за еду нитки, иголки, спички и другую, как тогда говорили, мануфактуру. Проходило много калек, нищих, попрошаек. Люди шли по миру от большой нужды. Нищие стучали в окна. Чаще всего им что-нибудь подавали. Ведь нищие были, в основном, и бездомными. Мы-то хоть и чужую крышу, но имели, а у них ничего не было. У нас была своя нищая – Кораблиха, со Старого, из крайнего дома возле Лобовых. Запомнилась одна монашка и её слова: «От щец не откажусь», – когда бабушка предложила ей щей. Проходил через нашу деревню и нашёл нас один бабушкин родственник, который возвращался из тюрьмы, где сидел за своего сына семь лет. Я тогда так и думал: осудили сына, а вместо него пошёл сидеть его отец. Сейчас-то я знаю, что отец взял на себя вину сына, чтобы спасти его от тюрьмы и сесть самому.
В войну говорили, в основном, о том, что делается на фронте, в чьих руках сейчас Ржев, кто погиб, кто вернулся, что с кем стало. Вечерами при свете керосиновой коптилки читали газету «Пролетарская правда», доходившую до деревни из освобождённого от немцев города Калинина (ныне Тверь). Особой темой был разговор о том, что прочитала вчера и сегодня в Библии одна деревенская грамотейка. Сейчас я забыл, как её звали, но тогда у всей деревни к ней было особое почитание: ещё бы – она читает Библию. Обсуждали приметы, сны, видения, чудеса, страхи (например, где кого и как застала пуля и вообще смерть: на дороге, в лесу, в поле, сидя, лежа, обнявшись).
Пришёл с фронта без руки Сошин, и вскоре в его семье родился маленький ребёночек. Две дочки, Верка и Люська, у них уже были. Помню, как у них горел дом. Председателем колхоза стал вернувшийся с фронта без ноги Кудрявцев, а директором Новской неполной средней школы – Иван Иванович Коновалов. У Ивана Ивановича с женой своих детей не было, и они взяли к себе в дом приёмную дочь. Один паренек пас коров, вытащил снаряд из земли, стал его разбирать и подорвался на нём. Вся деревня и мы с бабушкой ходили прощаться с ним. Мишка Кузьмин возился дома с ружьём, нажал на что-то (а ружье оказалось заряженным) и попал своей матери прямо в плечо. Мать осталась без руки. Его отец, Сергей Кузьмин, сидел в тюрьме за то, что стащил из погреба колхозную флягу с молоком. Ему дали семь лет. У Зинки Планкиной трое сыновей: Юрка, мой ровесник и друг, Валька и Толян – остались без отца. Не вернулся с фронта Степан Степанович, отец Кати Комаровой и дед другого моего друга и ровесника Юрки Комарова, срубил и поставил почти один две избы: одну себе, на нашем Новом, на своём пепелище, а другую – Верке, у которой было трое дочерей (Анька, одна из них, старшая, была в няньках в Ременеве) и сын Витька (по прозвищу Гоп-хряп), а муж сидел.
Из Калинина к нам приезжала одна из двух бабушкиных сестёр, то ли тётя Лиза, то ли тетя Люба, скорее всего, Люба. Помню её гостинцы: сахарин, толстые алюминиевые ложки, спички пластинами, мячик для меня, обшитый сверху материей. Из Емельянова приезжала другая бабушкина сестра. Это её внук Женя Васильев пел, как Лемешев.
Когда стало возможным, к нам из Ленинграда приехала моя вторая мама – тётя, сестра моей матери, Прасковья Матвеевна Иванова (1897–1973). Я не знаю, в котором это было году: в 1943-м или в 1944-м – и сколько раз она приезжала во время войны: один или два. Если мама приезжала один раз, то это было в 1944-м году, когда она увезла в Ленинград Лиду, а меня оставила ещё на год в деревне у бабушки. Но, может быть, она приезжала два раза, и оба в 1944 году: один – зимой, после снятия блокады Ленинграда, а второй – осенью, за Лидой. Как бы мне сейчас хотелось, чтобы её первый приезд был бы не в 1944-м, а в 1943 году, когда я был ещё несмышлёнышем. Это хоть немного оправдало бы мою досадную выходку. В то незабываемое солнечное утро просыпаюсь, а она сидит на лавке у окна, и кто-то мне говорит: «Посмотри, Вовка, кто приехал. Это твоя мама». Я буркнул: «Никакая это не мама». – «А кто?» – «Опекунша, вот кто!» Мне до сих пор стыдно, как я мог такое выпалить. (Похожая оплошность, за которую мне стыдно до сих пор, произошла у меня с моей дипломницей В. А. Вотинцевой, агрономом колхоза «Труженик» Унинского района, ставшей потом заведующей контрольно-семенной лабораторией). Моя мама, Прасковья Матвеена, всегда была и остаётся моей мамой: и до войны, и после войны; и при жизни, с тех пор как отец принёс меня ей, по рассказу Ани, Анны Петровны, в красном одеяле, и сейчас, после десяти часов вечера восьмого февраля 1973 года, когда она на моих глазах и на моих руках ушла из жизни в больнице имени Ленина на Большом проспекте Васильевского острова, и когда её не стало.
Меня, наверное, не зря звали Волчонком. Не только по фамилии и бабушки, и матери – по-моему, я был злым мальчиком. Злым и обидчивым. А таким я стал, наверное, потому, что меня одни жалели: «Сиротка, сиротка», – а другие (это были старшие парни 15–16-ти лет), зная мою незащищённость, издевались надо мной, как, впрочем, и над многими другими моими сверстниками, рядом с которыми не было отцов. У меня украли красивую пушистую трёхцветную кошку. Передразнивали мою, чуть с финским акцентом, речь, ведь все мои предки со стороны отца происходили с берегов Невы и Финского залива.
Жалость ко мне раздражала, а издевательства ожесточали. Вот я и сказанул про опекуншу. А ведь она была мне по-настоящему как мать, а меня, наверное, стала считать вторым сыном после Коли. Но тогда, в то утро, я этого не понимал. Мама привезла мне ботиночки, короткие штаны на лямках, мячик (такой же, обшитый материей, как из Калинина), что-то ещё. Помню, как я стеснялся, когда она стала меня мыть в большом тазу.
В школу я пошёл в 1944 году. Восьми лет. В 1943 году всех нас – и семилетних, как меня, Вовку Хрусталёва, Юрку Комарова, и восьмилетних, как Кольку Бобкова, одного из братьев Лобовых – первого сентября отправили обратно из школы по домам. Подрастать. Видимо, все мы были очень слабые. На следующий год каждый должен был набрать и принести для фронта сколько-то мху, травы Иван-да-Марья, и что-то ещё. Когда мы стали учиться, бумаги не было. Писали на газетах. Из газет шили тетради, в них и писали. Букварь был один на весь класс. И то не в нашей деревне, а в другой, на Старом. Из газет же делали себе буквари. Учила нас добрейшей души человек – Екатерина Ивановна Воронцова, но почему-то у неё была кличка «Кочерыжка». Много раз мы ходили с ней в лес за дровами: она – себе, мы – каждый себе. В войну возить дрова было не на чем. Таскали из леса на себе.
За деревней на горе появилось своё кладбище. Раньше хоронили в селе Иверовском, куда мы с бабушкой ходили на могилы своих родных, а теперь стали хоронить и у нас. Но вначале была братская могила красноармейцев в палисаднике перед школой, прямо под окнами квартиры учителей, да захоронение немцев за дорогой, по другую сторону от школы, у какой-то хозяйственной постройки, сохранившейся от помещиков Воронцовых. Там ещё долго стоял барский тарантас на железном ходу и две или три телеги. Трупы немцев, лежавшие в окопах и просто в ямах и на земле, стали прибирать.
В декабре 1943 года Рыбаков из третьего класса чуть не отрубил мне палец топором, когда заготовляли хвою застилать дорогу на похоронах одной учительницы.
А война шла. Коля Бобков научил меня песням «Священная война» и «Варяг». Ещё он шепотом рассказал мне, что на одной нашей почтовой марке была изображена немецкая свастика, а на другой – Гитлер. И что это дело рук предателей. Многое вспоминается: и о том, как мы играли, бегали по проталинам с горы весной босиком, летом – по лужам, купались в грозу в барском пруду, все руки и ноги были в ципках и коростах, как бабушка искала меня по деревне с крапивой или с прутом, розгами, как сгорел хутор, где был дом Коли Бобкова, как горел Новский бор, как я однажды надоел бабушке, что она прикинулась немой. Поразительно, что к нам с бабушкой однажды приходил уполномоченный описывать имущество за недоимку по налогу на что-то, но никакого имущества, кроме коровы Гражданки, у нас не было.
Весной 1945 года всей школой мы ходили на реку Подулюсь смотреть ледоход. Зрелище незабываемое, точно такое же, как это рисуют художники на картинах. Наверное, на ледоход мы ходили не случайно. Скорее всего, его нам показывали не только потому, что шёл лед, но и в связи с тем, что война шла к концу. Вот это был восторг! До чего же мудрыми были наши учителя, что подарили нам такую красоту, вдохнули в наши души радость, стряхнули горечь идущей, пусть уже не у нас, пусть где-то далеко, войны.
Победа!
Война кончилась. Я почему-то не помню какого-либо восторга от победы, как, например, от ледохода и чего-то другого радостного. Но дни тогда были солнечные, ясные, веселые… Видимо мы, дети, настолько привыкли ко всему происходившему вокруг (пришли наши, ушли наши, пришли немцы, ушли немцы, опять пришли наши и пошли дальше, идут бои подо Ржевом…), что каждый раз были уже рады только одному тому, что остались живы. Смутно припоминаю, как каждый идущий по деревне говорил встречным, что война кончилась.
В деревне, в доме матери Юзика Польки, был общеколхозный праздник. Было два застолья для взрослых и одно для нас, детей. Ели щи с мясом, кашу. Наверное, не обошлось без пирогов с капустой. Их называли собинками. Про выпивку не знаю, но чай пили обязательно. Это была традиция: самовар на столе при любом застолье.
На кругу под липой, у школы, плясали и пели частушки («Правда, Зоя?» – «Верно, Нина!» – «Наше слово – золото!» или: «Мы с тобою как одна» и т. д., и т. п.). Под гармошку танцевали вальсы. Помнится, что на одной гармошке иногда играли сразу двое: у одного осталась только правая рука, а у другого – левая. Было и такое...
У Настасьи Горбицкой было два сына, один из них – Илюшка. Этот Илюшка жил в Саратове, был известным учёным, изобретателем, лауреатом Сталинской премии. Все мы ходили в гости к родственникам его жены на Филино. Филино, как и наше маленькое Новое, тоже было сожжено немцами, но там кое-что осталось. У тех, к кому мы ходили, на усадьбе остался хлев, в котором они жили и где мы гостили. Пили чай из самовара. От жужжания мух еле разбирали, кто что говорил. Шум, духота, мухи, радость, плач...
Победу, конечно, воспринимали не только как радость, избавление от тягот войны, но и как потерю родных и близких. У нас погиб Коля. У моего отца погиб на фронте его старший брат – Пётр Михайлович Чугунов. Пропал без вести на фронте другой его брат – Фёдор, через два года после войны от ран умер третий брат – Андрей. Бабушку по отцу, Пелагею Ильиничну Чугунову, немцы угоняли в Эстонию вместе с другими родственниками.
У моей первой жены Гали в 1944 году на фронте погиб брат Иван Пантелеймонович Ступников, 1925 года рождения. Отец жены, Пантелеймон Михайлович Ступников (1904–1957), умер от ран, так и не дождавшись никакой пенсии, потому что не мог получить справку о ранении из Военно-медицинского архива в Ленинграде. Каким был мой тесть, мне увидеть, увы, не довелось. Воевали три его брата (Павел, Ефим и Иван) и дядя жены Андрей Иванович Селезнёв (1909–1981). Воевали мужья обеих моих двоюродных сестёр: Алексей Иванович Егоров (1917–2004) и Алексей Степанович Баринов (1919–1997). Умер от ран в одном из госпиталей Челябинской области и второй мой тесть, которого я так и не видел, Михаил Григорьевич Герасимов (1903–1943). У него на фронте погибли два брата. А у моей второй тёщи Екатерины Кузьмовны Герасимовой (1904–1992) на войне тоже погиб брат. Обе мои бабушки из-за войны лишились всего, что нажили: и своих домов, и имущества. И потеряли своих близких. Одна – двоих сыновей, другая – своего внука. Война кончилась для меня, когда я вернулся в Ленинград в августе 1945 года и 1 сентября пошёл во 2-а класс 31-й мужской средней школы Василеостровского района города Ленинграда, на набережной Лейтенанта Шмидта, дом 15/1. Вначале мы сидели за партами по 3 человека. Нас было в классе более пятидесяти учеников, а с ноября класс разделили. Впереди была другая жизнь.
Другая жизнь. Первое время после войны (1945–1949 гг.)
Не помню, как мы добирались от нашей деревни до железнодорожной станции, когда возвращались с мамой в Ленинград после войны, но хорошо помню посадку в поезд. Нам надо было вначале доехать от станции Высокое до Лихославля одним поездом, а там сделать пересадку на другой, уже до самого Ленинграда. Из-за поворота показывается паровоз в клубах чёрного дыма, а за ним и весь поезд. Машинист кидает жезл дежурному. Поезд на станцию принят. На перроне шум, гам, начинается посадка.
Все пытаются залезть в вагон, все кричат, орут, напирают друг на друга и на проводницу. Пока проводница проверяет билеты у одних, другие лезут спереди, сзади, справа, слева. Ругань, толкучка, всем надо ехать. Мама, видя, что ей со мной не протолкнуться в вагон, подвела меня к открытому окну, подняла и подала кому-то в вагон. Чьи-то руки подхватили меня и затащили внутрь. Не знаю, как маме после этого самой удалось протиснуться в вагон. Прозвучали два удара дежурного по станции в станционный колокол, потом третий – последний перед отправлением гонг. И поезд тронулся. Люди висели на подножках, сидели и лежали на крышах, стояли на буферах между вагонами; не говоря уже о том, что творилось в тамбурах, коридорах и самих вагонах. На средних полках сидели по 2–3 человека, на верхних – лежало по человеку, а то и по два. В проходах – люди, между сидениями на узлах и чемоданах – тоже люди. Кто-то ехал стоя.
То, что этот поезд был пассажирский (видимо, Ржев – Калинин) с зелёными вагонами, я помню абсолютно точно, но в какой состав мы пересели в Лихославле – не помню. Возможно, это был поезд Москва – Ленинград, такой же пассажирский, но мог быть и другой, с теплушками. По крайней мере, на станциях, где нам приходилось подолгу стоять, были такие составы: из пассажирских, товарных вагонов и теплушек. Ехали красноармейцы, иногда вместе с лошадьми. На станциях обязательно бегали за кипятком. Помню, что проезжали Спирово (потом узнал, что там живёт много карел), Вышний Волчок, Валуйки, Бологое, Угловку, Окуловку, Малую Вишеру, Любань, Березайку, Мсту. Название каждой станции как клич эхом проносилось из конца в конец поезда, от вагона к вагону. И это звучало как торжество, как аккорд чему-то радостному: ещё проехали одну станцию, стали ближе к Ленинграду. Ехали очень долго, на станциях то пропускали встречные поезда, то ждали, когда нас обгонят. Не знаю, даже приблизительно, сколько времени шёл поезд. Возможно, что это были сутки. Может быть, даже больше. На станциях стояли часами.
Когда приехали домой, то оказалось, что дома никого нет, обе мои сестры, Аня и Лида, были на работе, попасть в комнату можно было только через форточку в перегородке (из кухни) и то – через комнату, отгороженную от кухни, где до войны жила Эмилия Андреевна. (Это её шезлонг, стул-тумба и альбомы с велосипедами и дачниками оставались, когда её, как немку выслали из Ленинграда, но, может быть, я что-то путаю, и она просто умерла в блокаду, а вещи и комнатка в шесть квадратных метров остались. Нет давно Елены Ароновны, нашего управдома, а потом директора Стеклянного рынка, и узнать, куда делась Эмилия Андреевна, не у кого).
Кухня в квартире была без окон, тёмная, освещалась только одной лампочкой, и можно себе представить, какой ужас испытала жиличка Наталья Тимофеевна Иванова (себя она заявляла Тимофеевой), когда она, вернувшись с дежурства в Энергосбыте с Ржевки, пришла на кухню зажечь керогаз, поставить себе чайник и увидела, что кто-то вылезает из форточки. Этим кем-то был я. Вопль страха разнёсся по всему этажу.
Как только я вернулся в Ленинград, мои сёстры стали вновь опекать меня. Помню, вскоре после приезда Аня купила мне коричневую пластмассовую лодочку, и я сразу стал пускать её в луже у сберкассы на углу 11-й линии и Большого проспекта. Мы ходили с ней в кино. В кинотеатре «Форум» на седьмой линии смотрели «Девушку с характером».
В Ленинграде было много разрушенных домов. У нас на Васильевском острове была разрушена школа № 24 на Среднем проспекте, дом перед Андреевским рынком на Большом, куда мы с Валей и Светой Мошковичами ходили что-нибудь поискать. На Неве у памятника И. Ф. Крузенштерну, перед училищем имени М. В. Фрунзе, была полузатопленная подводная лодка, у спуска за Академией художеств – баржа, за мостом Свободы на Тучковой набережной – какое-то военное судно, говорили итальянский военный корабль (то ли трофей, то ли полученный по репарациям). Наискосок у 31-й школы за Невой стояла «Аврора».
Люди после войны жили очень тесно. У нас в квартире в комнате Кирсановых медсестра Татьяна Александровна Обуховская прописала сначала у себя сестру Марусю, а потом – одного за другим – ещё троих братьев из деревни Вологодской области. Семья Вали Мошковича жила в комнате тёти – Нины Васильевны Кузнецовой, сестры его мамы Александры Васильевны, потом туда поселилась Вера, их племянница, а вскоре и отец Вали – Борис Абрамович, приехавший из Владивостока. В очень маленькой комнате жили Березины: Олег, его сестра Алла и их мать Мария Мироновна Шайтор, потом к ним приехал из Мурманска отец Олега и Аллы – капитан Северного флота Иван Александрович. Риша Шварц жил в комнате общежития энерготехникума. Поначалу жили даже в подвалах и на чердаках. Тимофеев жил на чердаке Военно-морского музея, Пантелеймонов – в сторожке парка Академии художеств. В квартирах жили на кухнях, в прихожих, в коридорах, в кладовках, не говоря уже о проходных комнатах со шторами, занавесками и разными перегородками. Над нами на шестом этаже в кладовке жила семья Будкиных из четырёх или пяти человек. Говорили, что жили даже на Смоленском кладбище в склепах под памятниками и в часовнях над могилами.
Во дворах были штабеля дров. У нас в квартире на 11-й линии ещё долго лежали дрова в кладовке. Вот до чего люди были напуганы и научены войной, что ни на что и ни на кого, кроме самих себя, не надеялись. Лифты в домах не работали. Тротуар по 10-ой линии от Большого проспекта до набережной, по которому я ходил в школу, был выложен плитами с кладбища, на немецком и ещё на каком-то другом, не понятном мне, языке.
Когда наш 2-а класс разделили на два класса, нашим новым классным руководителем после Тамары Яковлевны стала Софья Александровна Прокофьева, а в третьем классе, ставшем почему-то 3-г, – уже Евгения Фёдоровна Смоленская. Причём всё это время мы оставались в одном и том же помещении на третьем этаже, окнами на 10-ю линию, прямо напротив лестницы чёрного хода (над аркой во двор). Не того чёрного хода, где были квартиры учителей (в частности, Алексея Ивановича Ключанова) и техничек (например, тёти Фроси), то есть в крыле на набережной, с видом на «Аврору», а другого, в крыле школы на 10-й линии, в сторону училища им. Фрунзе.
Однажды наш класс был на карантине, и нас перевели в угловое помещение, окнами на 10-ю линию, но глухой стеной выходившее на переулок между 10-й и 9-й линиями. Мы раздевались отдельно от других, нам никуда нельзя было выходить, всё было отдельно.
Во втором классе я дружил с Вовами – Кулаковым, Гладенко, Сафроновым, Кузнецовым, с Лёней Пейсаховичем, Славой Мысковым, с кем-то ещё. Как-то, кажется, в 3-м классе (учились во вторую смену) вместе с Суворовым и Павловым вместо школы мы ушли на Смоленское кладбище вместе с моряками, хоронившими своего командира, какого-то капитана 1-го ранга. Как пошли от угла Большого и 11-й линии по Большому в сторону Смоленского кладбища, так и были в той колонне, пока похороны не кончились оружейным салютом. В школу идти было уже поздно.
Из событий жизни самым памятным было то, как я слушал по радио речь И. В. Сталина 9 февраля 1946 года на встрече перед избирателями Сталинского избирательного округа города Москвы. Это было перед первыми после войны выборами Верховного Совета СССР. Мама вымыла пол в комнате и после того как он высох, красила его мастикой (ею же она обычно подкрашивала седину в волосах), а я сидел на оттоманке (тогда у нас дивана ещё не было, его купили позднее), поджав под себя ноги и, затаив дыхание, слушал речь. Говорил он очень уверенно, душевно, сочно, сразу находя контакт со всеми, кто его слушал: с теми кто был там, в Москве, в зале, и с теми, кто его слушал по радио, в том числе и со мной. Его спокойную, чёткую, грамотную, убедительную речь с сильным грузинским акцентом я запомнил. Запомнил и то, как чувствовалось, что он иногда волновался. Потом я сам бывал на подобных встречах избирателей с кандидатами в депутаты на избирательных участках на 10-й линии, например, с директорами института физиологии академиками Константином Михайловичем Быковым (в энерготехникуме), Леоном Абгаровичом Орбели, братом директора Эрмитажа Александра Абгаровича Орбели (в геологической конторе) и другими.
В 1946 году я был на каникулах в Гатчине у своей сестры Ани, где она в то время работала. Тогда было много страшного: страшные рассказы, калеки, воры, руины. Но самым страшным было то, как мы, ребята, бегали в морг смотреть в окно, кого туда ещё привезли, кто опять подорвался на мине, снаряде или бомбе.
3 июня 1946 года умер М. И. Калинин. Поскольку он земляк одного из моих родителей (мать, бабушка и все предки по матери – тверские), и у нас в семье, и в деревне на Новом Михаила Ивановича почитали, я в те траурные дни не пропускал передач о нём по радио.

Послевоенные мальчишки
1 августа 1946 года мама взяла меня с собой в Петергоф. Туда ходил на своём катере 24-й цех Балтийского судостроительного завода им. Серго Орджоникидзе. Мама была бригадиром парусниц. В войну на парусном участке этого цеха шили чехлы для корабельных орудий (а также для диванов и кресел, в частности, для командующего Балтийским флотом адмирала В. Ф. Трибуца), обшивали флотский экипаж. Во флотской столовой экипажа в блокаду им разрешали брать и уносить домой картофельные очистки, а жена Трибуца даже давала им что-то поесть. Может быть, и эти очистки в какой-то момент поддержав маму, не дали ей в голод умереть, хотя два раза она падала от истощения на Большом и её увозили на карете скорой помощи в больницу на поддерживающее питание. Тогда таким было лечение для ленинградцев. Я гордился своей мамой, одно время её большой портрет был на Большом проспекте у Косой линии в галерее передовиков производства Балтийского завода. Как я стал понимать сейчас, мне та поездка в Петергоф была подарком на день рождения. Я родился в тот самый день, 1 августа 1936 года. Тогда мне исполнилось ровно 10 лет.
На встрече нового 1947 года во Дворце культуры имени С. М. Кирова перед нами, детьми рабочих и служащих Балтийского завода, вместе с другими артистами выступал тогда ещё молодой и неизвестный, а потом ставший великим Аркадий Райкин. В 1947 году я был первый раз в пионерлагере Балтийского завода, в посёлке Кезево за Сиверской, там было весело, хорошо кормили, давали добавки, было очень спокойно. Физруком был Борис Петрович Тургель (физрук 24-й школы, потерял на войне руку). Он проводил интересные походы с ночёвкой и ужином в лесу. Но мы всё равно почему-то всегда ждали родительских дней, и очень хотелось домой, хотя я и был там только одну смену. Когда я был в этом лагере второй раз, в 1951 году, у нашей отрядной пионервожатой Аллы Белоусовой во время поездки по каким-то делам в Ленинград на вокзале украли все её документы, а вместе с ними и мой комсомольский билет, который я отдавал ей на хранение. Нас с ней за утрату обсуждали на бюро Василеостровского РК ВЛКСМ (уже не на 9-й, где нас принимали в комсомол, а на 4-й линии). Вынесли по выговору: ей с занесением в учётную карточку (личное дело) – за халатность, мне без занесения, как новичку в комсомоле.
В 1947 году, 14 декабря, была отменена карточная система. Но мне этот год запомнился ещё и ЧП, которое случилось с моей бабушкой 11 августа. К тому времени она от Настасьи Горбицкой перебралась в дом напротив, в котором никого не осталось и никто не жил. Бабушка шла с озера с дневной дойки с подойником молока. На крыльце оступилась (ступенька была плохой), упала на камень и разбила себе ногу. Скорее всего, у ноги была какая-то глубокая рана. Бабушка не могла ходить. Из Ленинграда приехала мама. 31 августа я проводил маму до леса за Старое, и она пошла на поезд на нашу станцию Высокое. Когда вернулся домой, я застал бабушку парализованной. Она понимала всю безвыходность положения: в больницу, в Ладьино, куда её на лошади возили от колхоза Савинкова и ещё кто-то, её не положили («других много»), в Ленинград её не перевезти, да и как там с ней быть (все работают, я мал, комната маленькая, места нет), маму отпустили с работы только на три дня (ещё были законы военного времени: опоздаешь – не просто уволят, а посадят), вот у ней за какие-то полчаса-час, пока я провожал маму, отнялась речь и отказал левый бок – рука и нога. Почти месяц я с бабушкой был один: переворачивал её c боку на бок (вначале на кровати, а потом перекатывал с матраса на матрас на полу), топил печку (чтобы затопить, приходилось залезать на шесток через табуретку), несколько раз пытался доить корову, но каждый раз она выбивала из рук подойник и отбрасывала меня в сторону (хорошо хоть не бодалась), утром выгонял корову на пастьбу, а вечером загонял обратно; чем-то кормил бабушку и питался сам, а с первого сентября ещё надо было ходить в школу. До 24 сентября я учился в 4-м классе той же Новской неполной средней школы, куда ходил в первый класс в войну. Потом бабушку вместе с коровой, тоже Гражданкой, но уже не той, которую бабушка выпустила из горящего дома в 1942 году, а её дочерью, забрала к себе в Толмачёво тётя Маня, и я с кем-то из деревенских уехал в Ленинград. Больше бабушку я не видел: 3 марта 1948 года её не стало. Похоронили её возле церкви в маленьком сельце, которое называлось Ушаковские Горки, или просто Горки. Через сорок лет я бабушкиной могилы найти не смог, хотя место, где её похоронили, знал, и кажется, знаю до сих пор.
После второго возвращения из деревни в Ленинград в своей 31-й школе я стал учеником 4-в класса. Там я познакомился с Толей Дениным и дружил с ним три года. Зимние каникулы в январе 1948 года у меня прошли в доме отдыха всё того же Балтийского завода на станции Бернгардовка. Там я впервые пел на людях на ёлке под баян. Пел две песни: «Одинокая гармонь» и «Лучше нету того цвету». Я очень боялся петь, стеснялся. Народу было много, мне очень хлопали. Тогда я ещё не мог понимать, что песни, особенно вторая, мне не по возрасту. Но зато они были по моему альту.
Через какое-то время после 1 февраля 1948 года у нас стал жить А. С. Баринов, второй муж Ани. Первый её муж, Николай Кишко, исчез где-то на Украине. Несколько лет она была вынуждена жить под его фамилией. Он обманул её при регистрации брака, представив в ЗАГС не паспорт, а краснофлотскую книжку, где не было отметки о том, что он женат. Анины дети, Ира и Саша, тоже стали жить не под своей законной фамилией, а под чужой – Кишко. Всё это тянулось довольно долго, пока обман не был раскрыт, и все стали Бариновыми. А. И. Егоров, муж Лиды, появился у нас после их свадьбы 7 ноября 1951 года, уже после ЧП с его «Москвичом». Алексей Иванович – почти ровесник революции. Он родился 10 ноября 1917 года, был известным в стране и за рубежом модельщиком, работал в Центральном военно-морском музее. Его модели кораблей и сейчас находятся как в музеях, так и в семьях маршалов и адмиралов. А «Москвич» он купил у артиста Владимира Канделаки. Именно с ним и произошло ЧП в лесу, между сосной и канавой на дороге.
23 февраля я чуть не утонул в Неве у моста им. Лейтенанта Шмидта. Заканчивался урок физкультуры, я был на лыжах. На Неве у моста я увидел большую трещину между наледью от берега и льдом на реке. Я решил проверить, крепко ли держится наледь и нельзя ли её сбить. Проверил, сбил, вместе с этой наледью (огромной глыбой изо льда и снега) я ушёл в воду через ту самую трещину. Вижу, что я в воде, тону, уцепиться ни за что не могу, лёд надо мной ломается, да и лыжи не дают ничего сделать. Зрелище воды перед глазами было фантастическим, как в сказках о водяном царстве. Вода прозрачная, чистая, как будто бы серебряная. И тишина. Полная отрешённость от всего земного. И беспомощность. Я действительно думал, что утонул. Меня спас какой-то моряк. Он проходил то ли по набережной, то ли по мосту, увидел меня, бросился на лёд и вытащил из воды. Обсушиваться, отогреваться я побежал к Толе Денину. К тому времени мы были с ним настоящими друзьями. А домой я идти не решался, боялся, да и дома никого не было.

Пионерский отряд
Когда 3 марта умерла бабушка, дядя Ваня послал в Ленинград телеграмму, но она до нас не дошла. Вместо 11-й линии он написал 4-ю, потом он обвинял меня, что на конвертах со своими письмами я 11 писал как 4, вот он и написал – 4, а не 11. Могло быть и так. 31 августа 1948 года умер Андрей Александрович Жданов. О нём люди говорили, жалели: в блокаду он был в Ленинграде. Тогда же умер маршал Рыбалко.
К тому времени я стал дружить с Вовой Потиным. Перед его отъездом на дачу в Лисий Нос, куда я к нему однажды ездил, мы в знак дружбы оставили вензель из битума на решётке крыльца Академии наук. Этот вензель оставался там в целости и сохранности ещё несколько лет, даже после того, как мы с Вовой перестали быть закадычными друзьями, оставаясь просто одноклассниками.
В августе 1949 года у нас появилась Ира. Теперь в двух комнатах, 12 и 6 кв. м, нас стало шестеро: мама, Аня, Алексей Степанович, Лида, я и Ира. До появления на этой же площади Алексея Ивановича, а потом и Игоря, оставалось ещё 2,5 года. Поражаюсь сам, как это мне доверяли трёхмесячную Иру на автобусе № 6 возить в ясли ткацкой фабрики им. Желябова на Железноводскую улицу на остров Голодай и забирать обратно. А ведь её надо было одеть, запеленать, уложить в одеяло, дойти до остановки и сесть с ней в автобус, а потом ещё идти с ней домой и подниматься на пятый этаж, сидеть с ней до прихода с работы кого-нибудь из остальных... А потом были Саша и Игорь, но я к тому времени уже подрос. С Серёжей я возился, правда, изредка и не подолгу, будучи совсем взрослым, студентом института.
В 1949 году отмечали 70-летие И. В. Сталина. О том, как это происходило, торжественно и грандиозно, можно было судить по подаркам Иосифу Виссарионовичу на большой выставке в Музее революции в Москве, которую я видел в 1956 году. В мавзолее, тогда Ленина-Сталина, видел и самого Сталина. Он лежал как живой и выглядел точно таким, каким его изображали на картинах Налбандян, другие известные в то время художники и описывали Сурков, Исаковский, Симонов, другие поэты и писатели. Мне это было компенсацией за неудачу в попытке съездить на похороны Сталина 9 марта 1953 года, когда первый секретарь Ленинградского обкома комсомола Вадим Андреевич Саюшев (впоследствии министр по трудовым ресурсам) чуть ли не включил меня в состав делегации от Ленинграда. В честь 70-летия в актовом зале школы проводился митинг всех учителей и учеников. Народу было много, наш 6-г класс стоял где-то в середине зала, а мы с Вовой Потиным постоянно дурачились, и там, на этом митинге, тоже. Разве можно было тогда подумать, что кто-то это заметит. Заметили. Либо в тот же день, либо назавтра меня после урока вызвал к себе в кабинет наш завуч Арон Моисеевич Стерлин и часа три-четыре отчитывал: знаю ли я, кто такой товарищ Сталин, как я мог, неужели я не понимаю, почему и т. д. и т. п. Он сидел за своим столом, то что-то читал, то проверял, то писал, а я стоял перед ним, не зная от страха, что сказать: влип. Влип, серьёзно первый раз в жизни, и думал только об одном: неужели Арон Моисеевич меня когда-нибудь отсюда выпустит (впоследствии так бывало на экзаменах, если что-то было не под силу: сдам – не сдам, лишь бы скорее прошло время и всё кончилось). Сказать, что во всём виноваты «Кубанские казаки», было глупо, как глупо и то, что мы с Потиным тогда были: один – Никаноровной, другой – Христофоровной, и на всех переменах дурачились, подражая этим хохотушкам из только что вышедшего тогда изумительно весёлого фильма. Сказать мне было нечего, Арон Моисеевич всё давил и давил: «Ты сейчас-то осознал, понял, ты хоть подумал, что ты наделал, что опозорил своим поведением всю школу?» И снова всё с начала, причём, в основном, не глядя на меня, не поднимая головы, не отрываясь от своего дела, как будто бы меня тут нет, а я стоял перед ним в неизвестности и страхе, что будет со мной дальше. Не помню, как он меня отпустил, и как я вышел тогда из его кабинета за учительской, но страх от тех трёх-четырёх часов мне запомнился. И запомнилось 70-летие Сталина.
Через 30 лет, в январе 1980 года, когда в Грузии только что отметили его 100-летие, я был в Цхалтубо в санатории «Геолог». В некоторых магазинах за прилавками стояли маленькие, а иногда и большие бюсты Сталина, во дворах жилых домов – настоящие монументы. На стёклах автомобилей – фотографии. Повсюду продавались календари с ним. По всему было видно, что его здесь чтут. На рынке в Кутаиси грузин продавал его бюсты по цене от 12 до 20–30 рублей. У меня с собой было только десять, а 3 рубля надо было оставить на обратную дорогу из Кутаиси в Цхалтубо. Значит, я мог потратить только семь рублей. «Любишь товарища Сталина?» – спросил меня продавец, видя, что я не отхожу от прилавка, но не покупаю его товар, и уступил мне хороший бюст Сталина за 5 рублей. Тогда же мне удалось съездить в Гори и побывать в музее Сталина, в домике, в котором он родился. И всё время я вспоминал Арона Моисеевича и его допрос с нотациями в 1949 году.
Один из братьев отца, если мне не изменяет память, дядя Андрей, был коммунистом. Коммунистом, по словам мамы, но она могла и ошибаться, был и мой отец. Отца не стало в 1938 году, матери – годом раньше, в 1937-м. Всё это в школе было известно из моих бумаг об опеке надо мной, которые были в моём личном деле. Неужели кому-то в голову пришла мысль, что я из семьи врагов народа? И поэтому так себя веду и что меня надо поставить на место? Вряд ли. Но ведь Вову Потина к завучу почему-то не вызвали. А меня вызвали, а, может быть, просто настораживали сами даты: 1937 и 1938 годы, и вынуждали на всякий случай проявлять «бдительность», а попросту вызывали ко мне подозрительность. Наверно, поэтому же никого не нашлось в школе помочь мне при окончании 10 класса, когда в экзаменационной работе по тригонометрии я допустил какую-то оплошность и из-за этого получил в аттестате зрелости один «уд» при всех остальных «отлично». Неужели никто не решился сделать мне снисхождение к ошибке, хотя бы узнать мои обстоятельства тех дней (а они были довольно серьёзными и могли быть основанием для пересдачи того экзамена), потому что боялись быть заподозренными в пособничестве «врагу народа»? Кто знает...
Я не скажу что в то время, в 1949 году, я был несерьёзным. Я сравнительно неплохо учился, был не просто примерным учеником, но и председателем совета пионерского отряда нашего класса, членом совета пионерской дружины всей школы, а потом и председателем ученического комитета школы. Был и комсоргом, и старостой класса. Я многим ребятам помогал в учёбе, оставался после уроков делать с ними домашнее задание, занимался с ними, особенно с новенькими и с теми, кому было трудно. Со мной за парту сажали для исправления драчунов, забияк, хулиганов. Однажды осенью, в сентябре, в седьмом классе я водил не сдавших плаванье по норме БГТО в ЦПКиО им. Кирова и принимал сдачу этих нормы. У самого меня был, как бы сказали в годы развёрнутого строительства социализма, «маяк» в учёбе – Валя Мошкович. Валю Мошковича я помню со второго класса, может быть, и с третьего. Дело в том, что мы жили напротив друг друга: я – на 11-й линии, в доме № 20, а он – на 10-й, чуть наискосок, сейчас там то ли посольство, то ли консульство. У них была очень дружная семья: сам Валя, его сестра Света, мама Александра Васильевна и их тётя Нина Васильевна Кузнецова. Борис Абрамыч, отец Вали и Светы, появился намного позже, когда все мы уже повзрослели. Он приехал из Владивостока. Почему я помню, что из Владивостока: Валя постоянно упоминал бухту Золотой Рог. У Вали был с самого начала, как я его знаю, очень хороший почерк: буквы ровные, округлые, аккуратные, очень тёплые и весёлые, и писал Валя всегда очень грамотно, без ошибок, без перечёркиваний, почти без клякс. Он первым в классе читал такие книги, какие мы читали уже намного позже. От Мошковича я узнал про «Хижину дяди Тома», «Сказки дядюшки Римуса», «Приключения Тома Сойера», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Собор Парижской Богоматери», «Всадник без головы», «Отверженные» и др. По-моему, у него же, если не он у меня, я научился играть в шахматы. Но если даже он от меня научился, то он стал меня обыгрывать. Одновременно с ним мы начали заниматься фотографией. Как уже было сказано, у меня от моего двоюродного брата Коли Иванова остался фотоаппарат «Фотокор». Сейчас Валя – профессиональный фотограф, даже больше, фотохудожник. У них в комнате на десятой линии мы ставили спектакли в теневом театре, помню «Трёх поросят». Это была Валина затея. Своим трудолюбием, настойчивостью, целеустремлённостью, любознательностью он выделялся всегда. Во главе с Валей мы, несколько человек, среди которых всегда обязательно была его сестра Света, ходили на место разбомблённого дома у Андреевского рынка, иногда на Смоленское кладбище, были в Летнем саду. Вход в Зоологический музей был бесплатным, поэтому и туда мы ходили, причём не по одному разу в год. Я не был на свалке у взморья с Валей (боялся), но знаю, что Валя любил туда ходить за образцами минералов для фондов геологического музея. Вале Борис Львович Запольский доверял ключи от кабинета физики, где некоторые ребята, например Витя Вейнберг, Гарик Григорьев и обязательно Валя Мошкович пропадали до позднего вечера в лаборантской за разбором завалов учебных пособий по физике. Особенно мне хочется отметить, каким смелым был Валя Мошкович. Доказательство первое: когда дворничиха их дома засекла нас в подвале на месте бывшей ювелирной мастерской за отправлением малых естественных надобностей и меня повели в детскую комнату милиции в соседний дом, Валя не испугался, не убежал, а шёл сзади и упрашивал дворничиху отпустить меня. Второе. В нашем доме был лифт, после войны он долго не действовал, с дореволюционных времён проём для лифта был ограждён небольшим решётками. Это уже потом, когда лифты в Ленинграде пустили в эксплуатацию, были установлены сплошные ограждения. Не то что бы прыгнуть в шахту лифта, я глядеть-то туда боялся, а Валя, когда уходил от нас, ни с того ни с сего вскакивал на перила, хватался за канат и съезжал по нему с пятого этажа на первый, и так несколько раз, класса до шестого. Удивительно, что Валя успел проделывать свои трюки, до того, как однажды канат вдруг взвился вверх на шестой этаж, под самую крышу (не канат, а трос). Валя Мошкович всегда был моим образцом и другом (пока он не перерос меня в своей тяге к технике).

В. А. Чугунов с братьями жены
Я, пожалуй, всегда был серьёзным, но после того случая на митинге стал ещё серьёзнее, стал по-другому смотреть на всю жизнь. Уже позднее, после восьмого и девятого классов, мне удалось съездить на заработки на Север, причём в 1953 году поехал не только я, но и ещё четверо ребят из нашего 9-а класса.
P.S. Моя жена Галя родилась на второй день войны – 23 июня 1941 года.
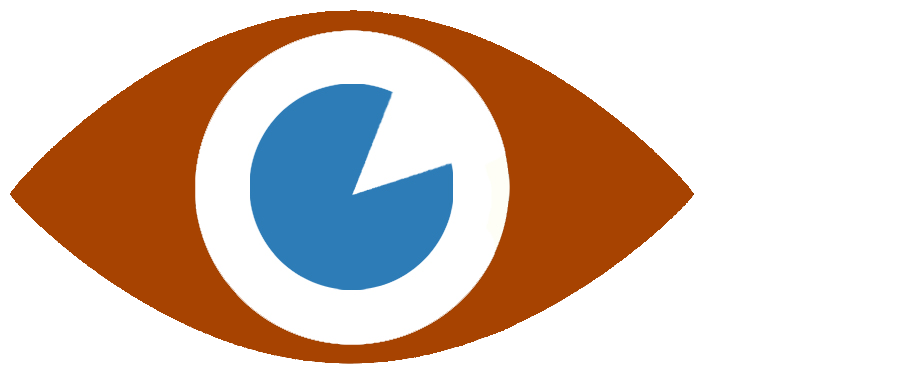 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих