Рассказы из новой книги
В.Н. Крупин
Поздняя Пасха
Когда я был маленьким, то были большие гонения на Православие. Но все равно день Пасхи был очень радостным. Красили яйца, в доме пахло стряпней, надевали чистые белые рубахи, тогда еще без манжет, с широкими рукавами. Яйца из опасения не давали выносить на улицу, но разве удержишь в избе такую радость — конечно, мы брали их с собою.
В тот год была поздняя Пасха, было тепло, зелень вовсю. И мы решили в этот день выкупаться. Первое купание всегда волновало. Но я не о нем.
Мы уже выкупались, грелись на песке, когда кто-то дал мне посмотреть сквозь цветное стекло. Помню, я отошел от всех и поглядел — и содрогнулся: все стало другим. Весь мир стал другим. Все преобразилось, изменилось, все стало мягче и резче. И как-то тише стало. Облака замерли, солнце сбавило напор, даже ощутилась прохлада. Были полдень, река, плывущие бревна, желтый песок за рекой, зелень и серебро лопухов мать-и-мачехи, длинные тонкие ветви ивы — все стало будто только что возникшим, умиротворенным, лишенным опасности. В реке стало невозможно утонуть, из кустов не могла выползти змея, с обрыва нельзя было упасть. Было ощущение, что время остановилось. Помню свой восторг, даже то, что я восхищенно и судорожно вдохнул воздух и так и стоял, не смея передохнуть и чувствуя себя легко-легко.
...И вот прошла целая жизнь, и это состояние повторилось.
У меня умер отец. А я в это время был в Италии, на Капри, на каком-то международном симпозиуме. Главное было не в симпозиуме, не в докладах друг для друга, а в том, что мы на Капри, что такая хорошая погода, что виден Везувий. Я вовсю купался, хотя был конец ноября. А ведь знал, знал, что отец неизлечимо болен. Только что, до Италии, я ездил в Вятку и, прощаясь с ним, обещал привезти заграничного питья. Он уже почти не говорил и только рукой махнул.
Меня разыскали и сказали, что что-то с отцом. Ясно всем было, что именно. Все было как-то нелепо и неестественно: быть среди цветущей, висящей везде зелени, сидеть на террасе, вынесенной далеко над крутым обрывом в море, и вдруг эти слова о том, что что-то с отцом, ищут через посольство. Я пошел собираться. Стали звонить в Рим, в «Аэрофлот». К счастью, в делегации был батюшка, говорящий на всех языках. Он, видя, как мы бьемся и не можем пробиться, стал сам звонить. Вычислил по карте, где этот «Аэрофлот», позвонил в храм рядом с ним, попросил кого-то, чтоб сходили в агентство и ответили нам. Батюшка заказал билет. Я помчался на паром, все вниз и вниз. По дороге сломал несколько ярко-розовых веток — положить в гроб. Так и подумал: положить в гроб. На пароме, почти пустом, заносящем при выходе из бухты корму и ложащемся на курс, глядя на молчащий Везувий, я вдруг сказал громко:
— Чего ж ты, отец, меня сиротой-то оставляешь. — И разревелся.
В Неаполе я сказал таксисту, как учил батюшка: «Стационе пэр Рома»,— что означало «Римский вокзал». В поезде сидел среди пьющих и поющих негров, потом пришел контролер и велел мне перейти в другой вагон: оказывается, у меня был первый класс. Там сидела бодрая старуха, заговорившая со мною. Я пожалел, что нет на нее батюшки.
В самолете до Москвы летел наш балет. Напрыгавшись на гастролях, балерины отдыхали, задрав в небо длинные ноги в черных колготках.
Из Шереметьева я сразу поехал на Ярославский, купил билет до Вятки на какой-то почтово-багажный поезд и тащился в нем почти сутки, имея попутчиком мужчину, который возвращался с похорон тещи и страдал то ли от похорон, то ли от поминок.
Господь был милостив к отцу: все прошло хорошо — и отпевание, когда в Троицком храме за рекой Вяткой враз было не менее десяти разноцветных гробов, и хорошее место на кладбище, и был даже такой знак в тот пасмурный день: когда установили крест, то раздвинулись тучи, и к нам, на дно колодца, упал солнечный свет, да еще, откуда ни возьмись, прилетел и сел на крест белый голубок.
Вот... А вскоре я увидел тот самый цвет и свет, о котором говорил вначале. Это было под утро, в полусне-полуяви. Будто бы я молодой и влюбленный и будто бы я загулялся. Именно так я думал: что-то я загулялся, отец тревожится, надо скорее домой, отец ждет. И вот я иду домой, вот и наш дом: резные наличники, спокойно-золотые бревна, такая же, изнутри светящаяся крыша. Не ночь и не день. Ни луны, ни солнца. Ни лето, ни зима. Спокойно и тихо. И светло вокруг. И чисто, аккуратно. Дорога пыльная, пыль темного янтарного шелка. Травы склоненные, тут же тихое озеро. А дышать так привольно, на душе так спокойно, что думаю: дай посижу на крылечке, отец спит, приду чуть позже. То есть, очнувшись, я понял, что отец меня ждет, но что к нему я пока не пошел.
Есть, есть тот дивный свет и золотой цвет, тот воздух, та тишина, то спокойствие души, которое я видел и ощущал. И так хочется туда пойти и остаться там. Но, видимо, еще не пора. Видимо, еще надо заслужить.
Зимние ступени
Вятское село Великорецкое. Именно то село, где шестьсот лет назад явилась чудотворная икона святителя Николая. В начале лета сюда идет многолюдный Крестный ход из Вятки, и вообще все лето здесь полным-полно приезжающих — и молящихся, и просто любопытных.
Места удивительной красоты, взгляд с горы, на которой стояла сосна с иконой, улетает в запредельные пространства. Небольшая, похожая на Иордан река, источник и купальня около нее очень притягательны. В реке купаются, а кто посмелее, тот погружается в ледяную купель. Зимой купель перемерзает, но источник все льется и льется. Только нет у него, как летом, очереди; пусто на берегу. Но в церковные праздники все-таки вода льется не только в реку, но и в баночки, и в бутылочки: это старухи после службы приходят за святой водой.
Пусто зимой в селе, заснеженно, просторно. Даже и старухи эти, что стоят на службе в церкви и ходят за водой, не местные, а из районного центра, приезжают на автобусе, который ходит два раза в день, а иногда ни разу. Но в праздники ходит.
Накануне Рождества двое мужчин, Аркаша и Василий, делают ступени к источнику. Оба одного года, обоим за пятьдесят, но Василий выглядит гораздо старше: судьба ему выпала нелегкая. Всю жизнь, лет с четырнадцати, на тракторе, в колхозе. Нажил дом, вырастил детей. Дети поехали в город. Жена умерла. Дети уговорили продать дом, чтобы им купить квартиру. Купили. А недавно сын попал в одну историю, ему угрожала или тюрьма, или смерть от дружков. Надо было откупаться. Продали квартиру, сын сейчас живет у родителей жены, а Василий здесь, из милости, у дальних родственников, в бане.
Аркаша молод и крепок на вид, в бороде — ни одной сединки. Аркаша — городской человек, приехал сюда по настоянию жены, она певчая в церкви. Руки у Аркаши сноровистые, батюшка постоянно о чем-то просит Аркашу. Аркаша, конечно, руководит Василием.
Василий работает ломом, Аркаша подчищает лопаткой.
— Дожди на Никольскую ударили, экие страсти,— говорит Василий,— всегда Никольские были морозы, а тут дожди. Но уж рождественские свое берут.— У Василия на красных щеках замерзшие слезы. Телогрейку он давно снял, разогрелся, Аркаша в тулупчике.— Но уж зато сколько спасибо завтра от старух услышим,— разгибается Василий.
— Похвала нам в погибель,— рад поучить Аркаша,— нам во спасение надо осуждение и напраслину, а ты спасибо захотел.
— Не захотел, а знаю, что старухи пойдут, благодарить будут, какая тут погибель?
— Плохо ты знаешь Писание,— укоряет Аркаша.— Вот ты знаешь рождественский тропарь? Нет, не знаешь. А завтра в церкви запоют, и ты будешь стоять и ничего не понимать. Но это-то! должен знать: Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение. А? Ангельское пение в небесах слышали пастухи. Пастухом был небось? Вот, а ангельского пения не слышал, так ведь? По нашему недостоинству. В мир пришел Спаситель, и не узнали! — с пафосом произносит Аркаша.— Места в гостинице не нашлось, в ясли положили Богомладенца. Царя Вселенной!
— Я в хлеву часто ночевал,— простодушно говорит Василий.— Снизу сенная труха, сверху сеном завалюсь, корова надышит, в хлеву тепло. Она жует всю ночь, я и усну. Утром она мордой толкает, будит...— Василий спохватывается, заметив, как насмешливо глядит на него Аркаша, и начинает усердно откалывать куски льда.
Аркаша учит дальше:
— По замыслу Божию, мы равны ангелам.
— Нет,— решительно прерывает Василий,— это уж, может, какая старуха, которая от поста и молитв высохла, светится, та равна, а мы — нет. Я, по крайней мере. Близко к этому не стою. Ты — конечно. Ты понятие имеешь.
— Я тоже далек,— самокритично говорит Аркаша.— Были б у нас сейчас деньги, мы б не ступени делали, а пошли б и выпили.
— Вначале б доделали,— замечает Василий.
— Можно и потом доделать,— мечтает Аркаша, но спохватывается:— Да, Вася, в Адаме мы погибли, а во Христе воскресли. Так батюшка говорит. Христос — истина, а учение Его — пища вечной истины. Это я в точности запомнил. У меня память сильно сильная. Вот и на заводе — придут из вузов всякие инженеры, а где какой номер подшипника, какая насадка — все ко мне...
Батюшка уже сходил в церковь, все подготовил для вечерней службы, велел послушнику Володе не жалеть дров, вернулся в дом и сидит, готовит проповедь на завтра. Перебирает записи, открывает семинарские тетради. Так много хочется сказать, но из многого надо выбрать самое необходимое. Батюшка берет ручку и мелко пишет, шепча и повторяя фразы: «Мы не соединимся со Христом, пока не пробудим в себе сознание греховности и не поймем, что нашу греховную немощь может исцелить только Врач Небесный». Откладывает ручку и вздыхает. Когда батюшка был молод, принимал на себя сан, дерзал спасти весь мир. Потом служил, бывал и на бедных, и на богатых приходах и уже надеялся спасти только своих прихожан. А потом думал: хотя бы уж семью свою спасти. Теперь батюшка ясно понимает, что даже самому ему и то спастись очень тяжело.
— Ох-хо-хо,— говорит он, встает, крестится на красный угол, на огонек лампадки и подходит к морозному окну.
Последнее на сегодня солнечное сияние розоватит морозные узоры. Тихо в селе. Из труб выходят сине-серые столбики дыма. «Так и молитвы наши,— думает батюшка,— яко дым кадильный». Он возвращается к столу и записывает: «Благодатная жизнь возникает по мере оскудения греха». «Нет, надо проще,— думает батюшка, но туг же возражает себе:— Но куда проще, говорил Господь Каину, а тот умножал свои грехи. Праведный Ной разве не призывал покаяться? То же и праведный Лот. И не слушали. И на горы приходили воды, и огненная сера падала на Содом и Гоморру. Проходили воды, смывавшие нечестия, но проходил и страх гнева Божия, опять воцарялся порок, плясал золотой телец, опять все сначала. Господи, как же ты терпелив и многомилостив! Строили столп вавилонский, чтобы увековечить себя, свою гордыню. Господь смешением языков посрамил гордыню человеческую, они же стали воздвигать башни в себе. И опять Господь попустил свободу их сердцам, чтобы сердца их сами увидали гибель. Нет, не увидали. Через Моисея дал законы и обличил немощь человеческую, и опять: разве послушали?»
Батюшка снова встает, снова крестится, кладет три поклона и уже не замечает, что говорит вслух:
— Пророки говорили и умолкли, дал время Господь выбрать пути добра и зла, жизни и смерти. Всегда-всегда был готов Господь спасти, но люди сами не хотели спастись. И когда прииде кончина лета, кончина обветшавших дней, послал Господь Сына Своего Единороднаго в палестинские пределы.
Мысли батюшки улетают в Вифлеем. За всю жизнь батюшка так и не смог побывать на Святой земле, может, оттого так обостренно и трогательно он старается представить всю ее: и Назарет, и эти ступени, которые вели к источнику Благовещения, и ступени к пещере, в которой, повитый пеленами, лежал Богомладенец и куда вела звезда, и неграмотных пастухов, и образованных волхвов, и ступени на Голгофу. Батюшка всегда плачет, когда представляет Божию Матерь, стоящую у Креста. Сын умирал на ее глазах. Сын! Господи, только по Его слову сердце Ее не разорвалось, еще много Ей предстояло трудов.
— Дедушка,— влетает в комнату внучка,— а Витька говорит, что игрушки на елке — это слезы, что это ты говорил. Какие же это слезы?
— А,— вспоминает батюшка,— да, говорил. Видишь, Катюша, у нас елочка, а на юге пальма. Пальма же ближе к Вифлеему. Все деревья собрались славить Рождество Христа, а елочка опоздала, ей же далеко. Опоздала и заплакала. У нас холодно, слезки замерзли. Господь ей сказал: «Все твои слезы будут тебе как драгоценности». Вот мы и наряжаем с тех пор елочку.
— А еще Витька сказал,— ябедничает дальше внучка,— что Дед Мороз — это не Дед Мороз, а Санта-Клаус, американский, говорит. Да, дедушка?
— Нет. Санта-Клаус — это святой Николай, какой же он американский, он христианский, православный.
Внучка улетает. Батюшка облачается к вечерней службе. Он любит вечерние службы. У печки обязательно дремлет приехавший заранее старичок, которому негде ночевать, но который просыпается точно к елеопомазанию. Любит батюшка исповедовать именно вечером, без торопливости, спокойно, читая корявые строчки незамысловатых грехов: «Невестка обозвала меня, а я не стерпела и тоже обозвала, каюсь...».
Рождественское утро. Кто-то приехал еще до автобуса, успел уже побывать на источнике.
— Ой, Аркадий,— благодарят громко женщины,— это ведь такая красота, прямо как в санатории ступеньки, а мы шли, переживали, как попадем.
— Думали, как Суворов через Альпы, да? — довольно шутит Аркаша.
И в автобусе народу битком, и в церкви стеной. Василий забивается в самый конец, за печку, видит, что вьюшка на печке хлябает в своем гнезде и около нее поддымлено, закоптилось. Василий вспоминает, что у него в предбаннике есть глина и белила, и решает завтра же починить печку.
Начинается служба. Конечно, Василий не понимает многих слов, не понимает всего пения, но ему так хорошо здесь, так умилительно глядеть на горящие свечи, слушать батюшку, согласный молитвенный хор, видеть, как открываются и закрываются царские врата, как летит оттуда, из алтарного окна, сверкание рождественского солнца, и вдыхать сладкий запах кадильного ладанного дыма. Василию становится жарко, хотя он заранее снял телогрейку и стоит в старом свитере сына. Он чувствует, что нос у него расклеивается, думает: «Где это я простыл?» Достает носовой платок, высмаркивается тихонько и ощущает, что у него мокрые глаза. Он понимает, что это от умиления, от того, что так хорошо ему давно не было, что вот он, всеми брошенный, никому не нужный, нужен и дорог Господу, что Господь его не оставил, что ноги, слава Богу, носят, руки работают, никому не в тягость, голова соображает, что еще? Может, еще какую работу найдет, чтоб сыну помогать. «Пусть бы все на меня валилось,— думает Василий,— еще же и мать, покойница, говорила: «Кого Бог любит, того наказывает». И это, материнское, вспомнилось ему именно сейчас, в церкви, значит, жило в нем и ждало минуты для утешения. «Любит меня Бог,— понимает Василий.— Любит. Ведь сколько же раз я мог умереть, погибнуть, замерзнуть, спиться мог запросто, а живу». Василий украдкой вытирает рукавом слезы.
Аркадий стоит впереди всех, размашисто крестится. Но ему не до молитвы, надо готовить емкости для водосвятия. Он выходит на паперть и кричит проходящему соседу:
— А по какому праву службу прогуливаешь?
— Ты ж знаешь, я в церковь не хожу,— отвечает сосед.
— Надо,— сурово назидает Аркаша.— А если в церковь не пошел, ставь бутылку, я за тебя свечку ставлю.
Сосед смеется и бежит дальше.
Аркаша разбивает лед в бочке, начерпывает воды в ведра, несет в церковь. Батюшка заканчивает проповедь:
—...и каждому, и всем нам дается время на покаяние. Долготерпелив, милостив Господь, не до конца прогневается, говорят святые отцы, но мы-то, грешные, доколе будем полнить чашу греховную, доколе? Ведь уже через край льется...
Батюшка долго молчит. Слышно, как потрескивают свечи.
Звонят колокола. В морозном солнечном воздухе звуки их чисты и слышны далеко окрест.
Авторучка
Мне подарили красивую авторучку. Очень. Такую красивую, что ею я писать не осмеливался, но с собою возил. Приехав в Троице-Сергиеву лавру, вначале, как всегда, пошел к преподобному Сергию в Троицкий собор. Взял у монаха листочки чистой бумаги, достал красивую авторучку и ею написал имена родных и близких для поминовения о здравии у раки преподобного. На столе были и другие ручки, и карандаши, но ручки уже были исписанными, а карандаши притупившимися. Это я к тому, что люди подходили и тоже писали свои памятки. У меня попросили ручку, я отдал, а сам пошел в храм, к гробнице.
Там почти всегда очередь, но такая благодатная, такая молитвенная, что очень хорошо, что очередь. Читается акафист преподобному, поется ему величание, а между ними всегда-всегда звучит молитвенный распев: «Господи, помилуй». Поют все. Особенно молитвенно поет монах, которого привозят сюда на коляске.
Приложившись к мощам преподобного, отдав дежурному монаху памятки, я вышел и хотел взять свою авторучку. Но к ней уже была очередь. А я торопился и подумал, что зайду за ручкой потом. Но и потом ручка не простаивала, и мне было как-то неловко заявлять, что это моя ручка. Она уже стала не моей, а общей. Я подумал: сколько же ею уже написали имен, сколько же с ее помощью вознесется горячих молитв о здравии болящих, о прозрении заблудших, об утешении страждущих! И разве я что-то могу равное написать этим памяткам? Нет, конечно.
Решив так, я порадовался за ручку: каким же счастливым делом она занята — и пожелал ей долгой жизни.
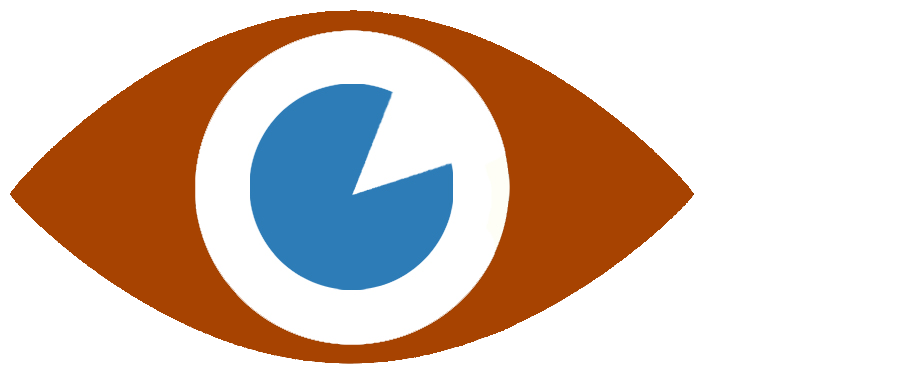 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих