Путешествие по Набоковским местам
С.А. Шешина
Нынешним читателям уже и не понять — не представить, каким потрясением для моего поколения стало открытие «новых» русских писателей, писателей-эмигрантов.
Книги Замятина, Зайцева, Осоргина, Шмелева пришли к нам уже в зрелом возрасте. Замученные в школах и институтах анализом «идейных содержаний», всеми этими «Цементами» и «Гидроцентралями», мы и предположить не могли, что существует и жив такой русский язык, такая литература и такая Россия. Они унесли ее «на подошвах своих башмаков» и сохранили. Это нежданное счастье открытия «их России» мы, дети рабочих и крестьян, наверное, и не заслужили.
И уж совсем ни с чем не сообразным стало чтение Владимира Набокова. Книги затягивали как омут, его странная проза искала и не находила разгадки. Как и сама его личность «в снобистическом ореоле»: его сачки и бабочки, научные работы по энтомологии, его английская проза, его «Лолита», его скандальные высказывания про классиков…
А рядом были его стихи, чистейшая русская поэзия — целомудренная, пронзительная в деталях и подробностях, полная неотвязной вечной тоски по родине.
В «Других берегах» Набоков писал о гармонии своего «совершеннейшего, счастливейшего детства», о зрительных и осязательных впечатлениях, которые позднее раздавал героям своих книг. Он восстанавливал эти впечатления «с праздничной ясностью» — и «родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено: красноватую дорогу, колоннаду толстых берез, некошеные поля…и дальше поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами…белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой холм с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых».
Этот склеп и эта церковь, как ни странно, живы. Можно сказать, что церковь в Рождествено лихие времена миновали. Закрылась ненадолго перед большой войной. Немцы пришли — открыли, наши пришли — закрыли, но опять ненадолго, до знаменитого сталинского указа военных лет…
Грабили церковь уже в наши дни, а прихожане горячо молились о спонсорах. «И не только молились, а в газеты писали,— говорят старушки,— и вот нашлись добрые люди — храм на охрану поставили и отопление провели…».
…Открываешь тяжелую красивую и от времени только потемневшую дверь — в храме светло и нарядно. Распластавшись ниц, лежат на полу пять женщин-прихожанок.
Шла Крестопоклонная неделя, но молящихся в храме немного. Хористок, пожалуй, даже больше. Говорят, они недавно окончили семинарию, и по праздникам народ — даже и неверующий — идет в храм их послушать. И с батюшкой повезло Рождествену — отец Владимир служит здесь уже 16 лет.
Юные женщины поют «Молитву Сирина».
После службы атмосфера в храме почти домашняя. Женщины греют «Нескафе» кипятильником, беседуют о тяготах жизни: и год выдался сырой — вся картошка ныне сгнила, и детский садик вот закрыли, и храму — нищий народ!— жертвуют мало. Да и много ли уделишь Богу с нынешней пенсии, разве вот на свечушку…
Дорожка к склепу на церковном дворе расчищена от снега. Синеглазый отрок в подряснике бежит с ведром по снежному двору.
— Это склеп Набоковых?
— Нет, это по материнской линии,— объясняет с улыбкой.— Елена Ивановна была из Рукавишниковых. Здесь, в этой церкви, родители Набокова и венчались.
Склеп — усеченная пирамида — мощный, облицован мраморными плитами. Мрамор от снегов-дождей потемнел. Внутри с корнем выдрана икона — зияет дыра, снаружи — византийская вязь орнамента.
Род Набоковых произошел, по словам писателя, от обрусевшего лет шестьсот назад татарского князька Набока. Были в нем и вестфальские крестоносцы, и военные, и золотопромышленники, и ученые. Дед писателя был министром юстиции, отец — известным общественным деятелем, погиб в эмиграции, заслонив собою от пули Павла Милюкова.
Рядом с церковью и склепом — шоссе. В «Других берегах» Набоков вспоминал эту дорогу, прорезавшую село, «окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб».
Сейчас изб нет, кругом дачные скоропалительные домики, куда петербуржцы приезжают отдохнуть летом. Рождествено стало ныне дачным поселком. С любого его конца видна на холме много раз описанная «александровских времен усадьба, белая, симметрично-крылая, с колоннами», она «высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредежь».
Усадьбу эту завещал пятнадцатилетнему Владимиру его дядя. «Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы — это было в 1914 году — когда-либо дойдут до наших мест».
Усадьба уцелела и в годы первой, и в годы второй мировых войн. Она запылала пять лет назад. Трудно сказать, подожгли ее нарочно или по неосторожности, но уж больно странное совпадение — загорелась она в самый день набоковских именин.
Начитавшись в путеводителях о местном краеведе и архитекторе Александре Александровиче Семочкине, чьими заботами и трудами восстанавливаются в Гатчинском районе Ленинградской области местные памятники (им был реконструирован и давних времен «Домик станционного смотрителя» — ныне музей), никак не чаяла найти его в рождественской усадьбе.
Думала, найду Александра Александровича где-нибудь в светлом кабинете при галстуке и чертежах. А нашла на самом верху усадебного дома в бельведере, продуваемом всеми ветрами. И был он в телогрейке, шапке-ушанке и сапогах — строгал раму. Кругом пахло свежим тесом, стружками, зияли меж бревен дыры, торчала пакля.
Строители, восстанавливавшие бельведер, совсем было закоченели в январскую стужу, но работ не прекратили. И теперь — а была я в Рождествено за два месяца до набоковского столетия — усадебный дом неплохо смотрится.
«Хотя,— сердито говорит архитектор,— юбилей сорвали, средств нет — и дела не у шубы рукав».
Впрочем, планировка усадьбы известна, рано или поздно будет она восстановлена, и откроется здесь набоковский музей. Пока же «коробка есть, а начинки нет»,— говорит архитектор. Он теперь еще и директор несуществующего музея Набокова.
С молодыми помощниками своими, преданными ему и делу, вот втискивает Александр Александрович остекленную раму в оконный проем, стучат молотки — и сквозняк в бельведере утихает. А двенадцать арочных окон его глядят с высоты на все четыре стороны: на белые снежные поля и синий лес на горизонте, на речку, проглядывающую из-под снега, на храм и склеп в церковном дворе.
Говорят, что усадьба в Рождествено построена была на развалинах дворца, где Петр I заточил царевича Алексея. Места мрачноватые — леса, болота да торфяники.
А у Набокова встает счастливый холм с белой усадьбой, с дремучим парком за ней, описываются места, «где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь…». Он писал и писал о крутых красных берегах, «откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой…».
Слыша бодрый стукоток работ на усадебном доме в Рождествено и видя, как снуют по лесам рабочие, подумаешь мельком, что им Набоков, что ему теперь хлопоты эти? Небось, и не читали труженики его романы, да и вряд ли когда прочтут… А вот один из рабочих — Алексей — вызвался проводить меня к набоковскому гроту, где течет родник, в котором вода, по его словам, «какой нигде в округе нету».
Я увидела красный берег с заботливо обустроенным родником, куда ходят за водой те, кому не лень. Алексей аккуратно убирает с тропки валежник, рассказывает о том, что старые дубы близ усадьбы спилили, а в пни посадили дубовые веточки, и саженцы прижились… И ты вдруг понимаешь, что и рабочие эти, и Набоков — братья по крови, что родина, которую любит каждый по-своему, у них одна.
Пока же «народная стройка» (странновато слышать по отношению к Набокову это слово — с его английским с младенчества, гувернантками и боннами, с его Кембриджем и «романами для избранных») хоть и по колдобинам, а движется. Выделили вот леса две делянки. Лошадь Майка, напрягаясь, тащит к усадьбе тес, и весь дом теперь в новеньких «заплатах»: колонны — серые, подгоревшие, а бельведер, венчающий здание,— сияющий, радостный.
В обед в рабочей сторожке строители развернули свои немудрящие бутерброды, вскипятили чай и молча встали на молитву. Кто постится, кто ест и скоромное, но у всех все-таки пост вынужденный — народной стройке денег не отпускают уже шесть месяцев. За несколько лет государство выделило из трех запланированных миллиардов (старыми) едва ли шестую часть, и этого, наверное, не наберется.
Да и то сказать, зачем Набоков государству? Это не Некрасов, демократом не назовешь. И потом — он всегда отличал «понятие власти» от «ключевого понятия родины».
А родина у него — нечто осязаемое, в звуках и запахах, травах и птицах. Набоков обладал каким-то вещественным, очень земным зрением на все рожденное этой землей.
Он описал родные места настолько зримо, что и сейчас, даже в зимний день, можно представить дорогу, где весело шуршат велосипедные шины. А если долго всматриваться, то можно увидеть и площадку, где играют в крокет, где проезжие мужики «глядят с удивлением на резвость господ». Можно услышать дожди, а в парковых дебрях найти боровики, подберезовики, подосиновики, насыщенные «сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя».
Рабочие расскажут, каков путь к набоковской усадьбе в Батово (сгорела в 1925 году), к набоковской же усадьбе «Наша Выра» (сгорела в 1944). Будешь стоять у какого-то хлама и снежных бугров, по которым угадывается фундамент. А вспоминать веранду и плетеное кресло, чтение Дюма и Жюля Верна, которые были ведь некогда и в твоем детстве. А еще — посыпанные кирпичной крошкой аллеи и нежных бабочек, за которыми охотился мальчик Набоков в детстве.
Снега, снега, грязная от угольной пыли улица Заводская. Ничего нет, одни осколки, а перед тобою магией создателя второй реальности возникает из небытия тропинка, отороченная мокрым жасмином, а под аркадою усадебного дома появляется легкая тень Машеньки-Тамары из романа и слышны клятвы вечной любви.
Все выгорело, а скользкие ступени остались, слышен ритм дождя в листве да «скрип столетних лип, накипающих ветром».
***
Еще три года назад в Петербурге, на Большой Морской, на доме № 47, висели вывески разнообразных организаций и учреждений. Хотя петербуржцы, прикосновенные к истории родного города, безошибочно показывали, что этот дом принадлежал семье Набоковых.
Сейчас здесь музей писателя. Музейный методист будет повествовать о символике цифры «20» в набоковской жизни: неполных 20 лет прожил в России, выпустил две небольшие книжки стихов; еще 20 — в Европе (роман «Машенька», повести «Защита Лужина», «Соглядатай», «Отчаянье», «Подвиг», «Приглашение на казнь», пьесы и рассказы), еще 20 — в Америке («Под знаком незаконорожденных», «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», мемуарная проза, перевод на английский «Слова о полку Игореве»)… Последние без малого 20 лет писатель вновь в Европе, живет и работает в Монтре (Швейцария).
Каждое 20-летие — на стендах музея, и каждому периоду посвящены ныне лекции, которые собирают в Доме Набокова публику — специалистов и просто читателей.
Странно думать, что классик этот был нашим современником: Набоков дожил до 1977 года, так и не повидав Россию.
Не привечал он и русских писателей, сделав исключение, говорят, лишь для Беллы Ахмадулиной.
Она рассказывала о своей встрече музейщикам. Запомнилось почему-то, что он спросил о языке своих книг: как он воспринимается? В ответ же на восхищение поэтессы заметил: «А я думал — это замороженная клубника…». Каким холодом, какой безнадежностью веет от этих слов. Эта «клубника» — анестезией иронии замороженная боль. Боль противоестественного для русского писателя отторжения от читающей России.
Говорят, в Америке, когда ему потоком шли стихи, он запрещал себе писать на русском и все же знал, верил, что его книги дойдут до русского читателя.
Ты, светлый житель будущих веков,
Ты, старины любитель,
в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
Какая-то читательская ревность является — он наш, он русский, и язык его — сокровище наше, рожденное петербургским ветром и мшистыми болотами Выры, и московскими снегами, и сиренью, и бабочками, и белым домом с колоннами на зеленом холме, и Бог знает какими еще подробностями быта-бытия.
Подумаешь с ревностью: зачем Америка, зачем английский, зачем «запрещал себе писать на русском…».
Вспомнишь с горечью, принимая на себя грехи, его фразу «тогда еще Россия была свободной и приемлемой». А потом с восторгом у него же прочтешь о дарованной писателю памяти, «которая была настроена на один лад — музыкально-недоговоренный русский — а навязывался ей другой лад — английский и обстоятельный». И поблагодаришь Создателя за эту память.
Особняк на Большой Морской. Огромная парадная лестница.
«Но ты, о лестница,
в полночной тишине
беседуешь с былым.
Твои перила помнят,
как я покинул блеск
еще манящих комнат
и как в последний раз
я по тебе сходил…».
Это случилось в 1918-м. Семья Набоковых уехала в Крым.
В бывшей буфетной ныне — история дома и округи — оказывается, этот петербургский район был буквально наводнен людьми искусства.
Будуар матери сразу узнаешь, комната светлая, огромным, выступающим на улицу фонарем она выходит на Большую Морскую: «…в начальные дни революции я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли…».
Из дома пока еще не съехали учреждения. Он набит компьютерами, телефонами, чертежными досками.
Под музей освобожден лишь первый этаж. Но музейщики поведут тебя наверх и покажут «комнату Володи» с сохранившейся кафельной печью, на которой он некогда нарисовал масляными красками больших бабочек. Покажут библиотеку отца — здесь расположилась экспозиция «Мир детства» — и напомнят, что «стены дома были пропитаны интеллектуальными интересами». Атмосфера дома все равно ощущается в нежных витражах на лестничной клетке, в резных деревянных панелях и потолках, в камине, облицованном деревом какой-то невиданной породы — говорят, в Петербурге сохранился единственный такого рода.
Документы, фотографии, воспоминания… Афиши петербургских спектаклей по пьесам Набокова. И есть еще отдельный стенд, посвященный экранной «Лолите», книжной «Лолите», оперной «Лолите» — это уже сегодняшнее.
А кругом бабочки. Как символ набоковской прозы, набоковской «безумной, угрюмой» страсти, начавшейся с огромного махаона на персидской сирени в Вырской усадьбе.
На фотографиях места, «которые с кисейным сачком я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпке, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках…».
Все еще только начинается. Когда-нибудь уедут из особняка компьютеры, в малой гостиной вновь разместится сомовская «Радуга», а бабочки вновь усядутся на кафеле печки.
Верится, будет когда-нибудь восстановлена и Вырская усадьба, и Рождествено, и Батово, а созерцательный читатель пройдет по маршруту «Набоковские места».
…Стоп-кадр. Июльский полдень. «Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно…».
И ты понимаешь, что «все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет».
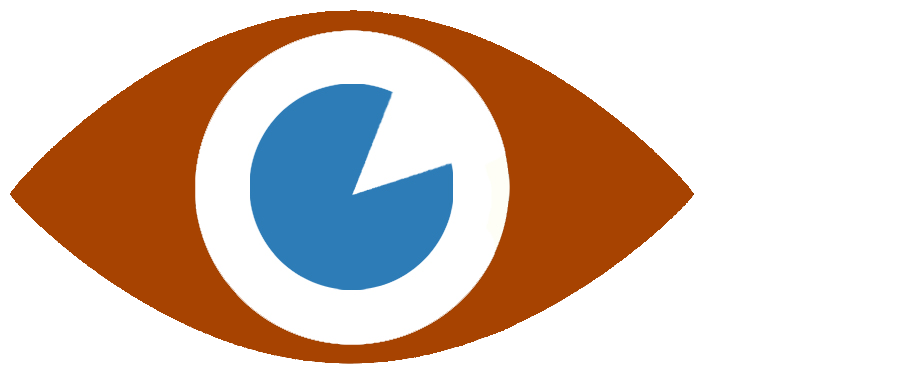 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих