Дневник Нины А.
Глава 1. 1909-й год
Пароход «Филипп». Среда, 15 июля
Было без четверти семь, когда мы садились на извозчика.
– Нина, смотри, пиши чаще, а то мы не будем знать, как вы живете.
– Хорошо, хорошо… и нам тоже.
– А вам-то как?
– Ну, как-нибудь.
– С Богом! Трогай. Не простудитесь в дороге и не захворайте… – слышались голоса.
– Да уж, ладно! – отозвалась я, выезжая за ворота. Мы приехали на пароход рано и ещё долго разговаривали с остающимися. Первый звонок… второй… все заторопились. Я вошла в каюту и выглянула в окно. На пристании виднелись знакомые шляпы и через минуту к нам вошли Клаша, Люба, Ю. Ив. и Володя Панов.
– Ты как здесь? – изумилась я.
– Как видишь, пришёл тебя провожать.
– Очень мило с твоей стороны.
– Мы не знали, что вы едете и хотели завтра к вам в Скопино.
– Жаль, не увидимся…
– Что же делать! Да я приеду в Казань дней через 5.
– Поищи нас…
– Хорошо, а где остановитесь?
Я отвечала, что не знаю и просила его писать с Клашей.
– Ну, пора отправляться, мы уже одни здесь, – я оглянулась, мы действительно были одни.
– Ну, прощай! …Как ты изменилась, – сказал он, спускаясь с лестницы.
– И ты тоже…
– О нет, я такой же, – услышала я уже снизу. Я поспешила на трап и долго ещё разговаривала со всеми, и о деле, и о разных глупостях.
– Нинуша! – вдруг крикнул Володя, – ты мне что-нибудь привези! И со всех сторон посыпались разные заказы. И многих они очень рассмешили, т. к. заказывали, например, рюмочку, стерлядочку… как будто их нет в Вятке. 3-й свисток. Пароход отошёл; и тут, и там замелькали платки, и высоко поднялись шляпы. Пароход дал прощальный свисток и пошёл полным ходом. Одна за другой замелькали прекрасные картины. Вот мы поедем мимо дачи Булычёва, огибаем Симановский остров, вот подъезжаем под Скопино – и что же? – на горе стояло несколько человек. Мне кажется, что я ясно вижу кто это: вот Леночка в светлом платье, вот Ек. Ал., сам Юдин, он в голубой рубашке, а вот и Соня. Они машут чем-то большим и белым, и мы отвечаем им. Милые, милые, ведь это для меня они вышли на межу.
Но быстро идёт пароход. Сменяются виды. Вот едем мы мимо Филейки, вот подъезжаем под мост. Какой он большой! Мужичок в красной рубашке, стоящий наверху, кажется игрушкой. Мы в каюте. Проехали Медяны, Гольцы. Ложимся спать. Нет, не спится. Качает, трясёт, стучит. Спать с непривычки невозможно. У меня заболела голова, захотелось встать, выйти на воздух, но… долго ещё лежали мы все трое, чтобы не разбудить друг друга. Наконец встали и оделись. Пароход подходил к пристани. «Орлов…», – послышались голоса. Мы выскочили:
– Это Орлов? – ничего не видно кроме служб.
Постояли, посмотрели и отправились в каюту, но не легли, а открыли окно и стали смотреть. Было тихо и сначала свежо. На реке горели огоньки бакенов и яркими точками отражались в воде, сосны шли, казалось, спокойно спали.
Постепенно предрассветный туман стал подниматься от воды: потускнели огни, побледнели очертания деревьев... Пароход тихо-тихо шёл всё дальше и дальше, «а туман, как витязя кольчуга, над рекою стлался, серебрясь…» Из мутно-белого, словно пустого пространства, плыли навстречу нам береговые тени, чуть-чуть, едва заметно, мелькали огоньки, а пароход все шёл и шёл в эту пустую мглу. Мы легли. И ещё недолго слышала я шум волн, затем заснула. «Вот и Котельнич!» – услышала я и, прежде чем успела опомниться, пробормотала что-то бессвязное. Через 5 минут у нас уже сидела Наст. Сид. с внучкой, но скоро ушла и мы поехали снова. И снова чудные, невиданные картины. Пустой сосновый лес точно взбирается на высокие берега, из-за деревьев выглядывают маленькие домики, сползшие ели купают свои тёмно-зелёные ветви в светлой, прозрачной воде. После Кукарки мы пообедали. Потом я читала около часа Лид. Геор. и Ан. Кап. книгу «Царь-работник». Устала и вышла на трап. Я стояла на корме и смотрела, как волны от парохода пузырились в глубине и быстро вспенивались; её мелкое причудливое кружево, словно наливалось и таяло в густой студенистой массе, какою казалась тёмная вода реки; ярко белея, на фоне тёмных облаков, реяла чайка. Поднялся ветер и белые гребешки побежали по волнам. Я поспешила на нос. Там были уже Аня К. и Маня К., смеясь, подставляли свои носы ветру. Я встала к ним, и ветер обвеял меня, и мне стало весело-весело. Но пошёл дождь, и мы убрались в каюту.
Пятница, 17 июля
Вчерашнее утро было скучно, зато вечер – превесёлый. Нас пригласили в рубку 1-го класса потанцевать. На рояле нам играла пианистка, Антон. Абрам. Фоминых, едущая в Елабугу давать концерты. Мы немного потанцевали, а потом она устроила нам игры. Например, мы все выходили из рубки, и в наше отсутствие она на виду «прятала» какую-нибудь, известную нам вещь, а мы должны были, вернувшись, её искать; кто находил, тот молча садился на место. Мы с Алей как увидим, покажем друг другу и расхохочемся. А Ант. Абр. смеётся над нами: «Они как найдут и рассмеются, уж по глазам видно, что нашли. Уж вы не смейтесь». А как не смеяться, спрятано на виду, а ищем 5 минут. Наконец наигрались и вышли на трап – говорят, что «въезжаем в Каму», но различие воды я не видела. «Ну, скоро Соколки, там я выйду. А пока идёмте гулять!» – говорит Ан. Аб. Я, Аля, Аня и Манька М. идём им навстречу и не пускаем. Всё же они прорвались, т. к. Ант. Абр. стиснула меня в боках. Потом она собралась, распростилась с нами и в Соколках вышла. Я с Л. Г. тоже сошла [на берег], и мы увиделись ещё раз. Разговорились. Оказалось, что она знает моего дядю, живущего в Елабуге. Простились и поднялись на пароход. Скоро он отошёл от пристани. Был чудный лунный вечер. Чуть-чуть волновалась река, и от почти полной луны ложилась на воду блестящая светлая полоса. Я долго сидела на трапе с Л. Г., вспоминая глаза Екатерины Георгиевны. Сегодня утром у Богородска выехали в Волгу. Казалось, мы были вблизи берега, но люди, находившиеся на нём, казались нам тараканами. Вот как широка Волга. И берега её высоки и круты. И в этой части они почти безлесны.
Вятка, 31 августа
– Ниночка! собирайся, уже второй час, пора идти.
– Я готова, тётя, только возьму чистый платок.
– Ну, так передай Екатерине Георгиевне поклон, скажи, что я хотела её проводить, но время не позволяет.
– Хорошо, так я ухожу.
– Ну, с Богом! – и я пошла в гимназию.
– Вот и Ниночка! – встретили меня там. – Посмотри, хорош букет?
– Хорош, но… неужели нас только четверо? – Да, ещё Лена, вот и все, пойдёмте, ждать не стоит.
Отправились. По дороге к нам примкнула Веруся и такой небольшой компанией мы пошли на вокзал.
– А речь? Зин. Ив., речь! Я не знаю, что говорить, скажите! – просила Наташа.
– По-моему, Наташа, вот что... а, по-моему, …нет, так нельзя! – послышалось отовсюду. И посыпались «речи» самого шутливого содержания, но, наконец, составили и серьёзную, и пошли, молча, каждая думала свою думу. А думы были невеселые: мы шли провожать нашу любимую учительницу словесности – Екатерину Георгиевну Гурьеву.
– И зачем она уезжает! Почему? Отчего именно она, а не другой кто, кого не жалко? Как пусто будет без неё в гимназии, она такая прелесть! – думалось мне. Я так привыкла видеть в учительской её невысокую, стройную фигурку, так любила её чудные тёмно-карие глаза, что мне казалось невероятным, проходя завтра мимо учительской, не увидать ни этих глаз, ни этой улыбки. Вероятно у всех, или, по крайней мере, у многих мелькнула такая же мысль. Незаметно в мечтах и разговорах мы дошли до вокзала. Там сбрызнули начинавший увядать букет и тревожно стали ждать. Вот кто-то едет: она? – нет. Вот еще – тоже нет! Ещё, ещё… всё не она. А вот там подальше кто-то едет в большой шляпе… это она! Где Наташа, скорей? Это действительно она, такая хорошенькая, нежная, грациозная, в голубой кофточке и с розами в руках.
– Вы давно уже здесь? А меня задержали, – произносит приятный певучий голос. А чудные глаза сияют.
– Ну, а теперь пойдёмте где-нибудь посидим, времени ещё немного. –Мы прошли в здание вокзала и сели на диванчик.
– Ниночка, я с тобой, – шепчет Владя Ж. и пролезает за мной поближе к Екатерине Георгиевне, я сижу с ней рядом. Я передала ей поклон от тёти, она поблагодарила и, оглядев всех, сказала вполголоса:
– Отчего вы такая грустная? – Не помню, что я ей ответила, сказала, кажется «так…» по своей глупой привычке и поскорее уткнулась в её букет. Тут мы сидели недолго. Ей захотелось пойти в вагон. Но в купе было так тесно, что все мы не поместились. Поэтому мы все вышли на полотно дороги.
– Ну, вы мне будете писать, да? Напишете коллективное письмо?
– Да, и вы нам тоже.
– Конечно, …затем пришлёте карточку.
– Но она не будет скоро готова… недели через две-три… и вы нам – свою?
– Хорошо, а теперь – желаю вам всего хорошего, я пойду в вагон.
Она начала прощаться. Мы все перецеловались с ней, и она вошла в вагон, остановившись на площадке.
– Екатерина Георгиевна! Вы лучше смотрите в окошко!
Она быстро исчезла и через секунду уже садилась за столик перед окошком в вагон. На глазах у меня навернулись слёзы, я спряталась за Владиным зонтиком. Но это было бесполезно: быстро наклонив голову, Екатерина Георгиевна заглянула под зонт. Маня Суетина не могла сдержаться и убежала. Ещё несколько слов с той и другой стороны, и поезд покачнулся, тронулся. Я послала Екатерине Георгиевне воздушный поцелуй, она ответила, и на её глаза, чудные, любимые глаза тоже навернулись слёзы. Она кивнула нам головой… Поезд пошёл скорее. Она высунулась в окно, замахала платком, а мы отвечали зонтиком. Поезд стал поворачиваться, Екатерина Георгиевна скрылась из глаз. Нежная залётная птичка улетела…
2 сентября
Как странно обращается со мной Л. Г.! Так осторожно, нежно, точно я теперь воздушное создание или фарфоровая безделушка, и она боится, чтобы не задеть меня как-нибудь грубо. Но почему? Я не плачу теперь, я не жалуюсь на то, что не вижу Екатерину Георгиевну. Я больше молчу и думаю о ней. А Л. Г. гораздо более внимательна ко мне теперь, чем тогда, когда я каждую минуту говорила ей о Екатерине Георгиевне. Почему же это?
Суббота, 24 октября
Я удивляюсь Лизе Бородулиной, которая живёт теперь у нас. Удивляюсь её капризам и прихотям. Больше она возмущает меня почти бессердечием и… глупостью. Сегодня было одно из обычных представлений. Завтра в театре идут две пьесы: «Непогребённые» и «Вторая молодость». Обе они разрешены ученицам. Но у Лизы за эту четверть вышло семь двоек и тётя вчера на совете получила из-за этого большую неприятность, как классная дама. И вот сегодня на Лизину просьбу отпустить её завтра в театр она ответила отказом. Лиза и разревелась, как приготовишка. Конечно, я понимаю, что получить отказ в удовольствии – обидно, но надо сначала спросить себя: «А стою ли я его?» Я помню, когда тётя Аничка предложила мне пойти на «Гувернёра», я задала себе этот вопрос и ответила: «Нет, по географии – 3 и у мамы денег нет!» А когда мне сказали, что идти я должна и взяли билет, мне стало не по себе, ведь это было незаслуженно! А удовольствие только тогда удовольствие, когда оно заслужено. Но Лиза на свои отметки не обращает ни малейшего внимания, хоть 1 – ей всё равно и горя мало. Она равнодушна ко всему, кроме театра и актёров. Но так жить, по-моему, нельзя. Многое в жизни неизмеримо более интересно и заслуживает в 100 раз большего внимания, чем актёры и их игра.
Можно увлекаться чем угодно, но надо уважать или хотя бы только терпеть увлечения и мнения других. Но Лиза совсем не такова: она готова бить, бранить и изводить того, кто скажет что-нибудь дурное про актёров, она готова ненавидеть тех, кто предпочитает театру другие удовольствия; она, не задумываясь, бросится на шею тому, кто скажет, что «Лабинский – дуся», и оскорбит того, кто осмелится препятствовать ей в посещении театра. Она сказала сегодня тёте: «Если вы не отпустите, я пойду к Ю. В. (начальнице), и она меня отпустит». Разве это не оскорбление? Сделав это, она сделает подлость. И вся-то сцена прошла среди истеричного рёва. А ещё, сколько она хвасталась, что умеет сдерживаться! Хоть у меня глаза на мокром-мокром месте, но я, слава Богу, до истерики не доходила. И я откажусь, не мигнув глазом, от того, чего не может получить Зина, если она больна. А у Лизы вот болен рожей папа. Теперь, после всенощной они пошли к Ю. В. Что-то будет? Интересно.
Воскресенье, 25 октября
Вчера-то кончилось ничем. Только Лиза, после раздумья, решила в театр не ходить и написать письмо доктору, чтобы узнать о здоровье отца. Зато сегодня… Ой, ой! Сегодня я целое утро прибиралась у себя в комнате, и Катя крупными буквами написала на бумажке: «Нине сегодня за приборку 5+». На минуту я вышла из комнаты. Возвращаюсь и вижу: идут верхние квартиранты и, глядя в окно, смеются. Что такое? Вижу, бумажка выставлена в окно, и выставила её Лиза. Удивительно приятно, подумаешь, когда все проходящие читают такую надпись; сейчас узнают, что это случилось раз «в кои веки!..» Я им сказала, что отплачу. И отплатила! Написала афишу: «Новость! Готовится к постановке новая пьеса с участием знаменитой актрисы Лабинской-Шиловой», нарисовала наверху с обеих сторон две карикатурно-удивлённые рожи и повесила вместе с другими афишами в столовую. Пришли обедать: увидели, прочли, рассмеялись. Улыбнулась и Лиза, но после обеда сорвала и измяла. Меня передёрнуло… слезы обожгли глаза… я пробормотала: «Как это бессовестно!» – и убежала к маме в комнату. На новом месте под плачущей физиономией я написала: «Спектакль отложен в виду нервного расстройства актрисы и администрации театра». Повесила туда же. Прочли, посмеялись… Лиза хотела было сорвать, да не дали ей. А во мне ещё до сих пор ворочается злоба, и давит грудь, и бьётся сердце, и лицо горит, как в огне…
Понедельник, 26 октября
Как я вчера вечером плакала!
Так много казалось мне,
Что слезы невольно закапали,
Сбегали по щеке в полутьме.
Мне стало так больно и совестно,
Что смеялась над Лизою я;
А с иконы смотрели так грустно
Божьей Матери звёзды-глаза.
Мне казалось, что ангел-хранитель
Улетел навсегда от меня
И что нам Всемогущий Спаситель
Не простит никогда, никогда!
И молитва горячая вырвалась
Из измученной горем груди
И слезами обильными вылилась…
И светлей стало всё впереди.
Но мне вспомнилось, что страданья возвышают душу человека, очищают её от всего грязного и порочного. И мне стало так легко, точно гора с плеч свалилась.
Суббота, 31 октября
Я начинаю серьёзно волноваться – из Петербурга нет никакого известия. Уж не болен ли кто? Меня сильно беспокоит здоровье Леночки. Ей я написала давно: числа 14–15, а ответа нет. Не написать ли ещё раз? Сегодня ещё не буду, но если и завтра ничего не получу, то закачу такое отчаянное письмо, что кто-нибудь, хоть Миша, да ответит. Странно, до этого года я как-то меньше волновалась и не то, чтоб волновалась меньше, а не показывала виду, что волнуюсь. Это высказывается не только в ожидании писем, а и в том, как я себя веду у зубной врачихи. Мне надо было сегодня выдернуть зуб, а то противный флюс всё не проходит. И идя к ней, и уже сидя в кресле, я так долго на это не решалась, что О. Н. удивилась даже: «Куда это ваша твёрдость девалась? Бывало, у меня и виду не покажет, что больно, а дома только плачет. Что это с вами сегодня сделалось?» Я и сама не знаю, только у меня сердце сжимается при виде этих отвратительных щипцов. Всё-таки выдернули. Дёргать же пришлось в два приёма. Зато, когда операция кончилась, у меня даже голова вся мокрая сделалась, и появилась ужасная слабость. Потом всё скоро прошло. Только, как же у меня не хватило силы не показать вида, что я боюсь? Скверно.
Вторник, 10 ноября
Я всё ждала от Сони письма, но не дождалась и написала сама. Меня очень беспокоит это молчание; так и думается, что или письма не доходят (в лучшем случае), или у них кто-нибудь болен, и Соне не до того. На этих днях пришла книжка А. Н. «Воспитание в семье». Она интересна. И там есть портреты Сони, Леночки и Е. А. Я видела Леночку в нарядном платье и в богатой квартире, во сне, конечно, и теперь думаю, что больна.
Понедельник, 23 ноября
– Ниночка, сходи, принеси выкройку, я, право, совершенно её не знаю.
– Хорошо.
И я пошла. Беру выкройку и смотрю в окно, вижу – идёт Ив. П. Ну, старичок опять гулять пошёл. Так было во вторник днём. 3 часа… Садимся обедать… Верхняя кухарка Александра приходит за дядей.
– Ив. П., тока ли не умирает…
Дядя пошёл. Ив. П. действительно умирал. Кровоизлияние в мозг не кончается хорошо. В среду он умер. Какая страшная загадка – смерть!
Папа не принёс денег 20-го числа. Это уже полгода. Тяжело… Тётя Кл. сердится, тётя А. сосредоточенно молчит, у мамы каждую ночь припадки сердцебиения. Все хмурятся. Скверно. При всех надо быть весёлой или хотя бы только спокойной. Но это так трудно, что я не вытерпела и, как ни кусала губы, а разревелась. Ничего не поделаешь – прорвалось.
Ниночка Беккаревич уезжает. Господи, ещё это! Все неприятности, а радости никакой. Я не была с ней знакома, но она мне очень нравилась. И мне очень грустно, что её не будет!
Глава 3. 1913 год
Вторник, 9 апреля
Вот уж скоро 2 недели, как я дома, а не вижу, как идёт время. Насколько тихо тянулось оно в больнице – настолько быстро проходило здесь. Но за это время я ничего не успела сделать, а до Пасхи осталось всего 4 дня. Надо сшить Лене платье и кончить рисовать гимназистку, ничего не успею сшить, хотя и надо бы. Катя шьёт себе голубое платье. Не знаю, право, в чём проходят дни. Должно быть в прогулках, которым я вознаграждаю себя за шестинедельное сиденье в «мёртвом доме» (скарлатинный барак уездной земской больницы). Боюсь, не злоупотребляю ли я ими; что-то болит очень голова. Но… на это я стараюсь не обращать внимания, т. е., вернее, не показывать этого нашим, так спокойнее и для меня, и для них. А не гулять – я не могу, тянет; и дома заставляет сидеть лишь работа и усталость <…>
Страстная Пятница, 12 апреля. 3 ч. дня
Только что пришла с исповеди. Беспокоюсь – во всём ли покаялась. Как будто во всём – как будто нет… Там, на клиросе от страху все грехи забываются <…>
Светлое Воскресенье, 14 апреля. 12 ч. дня
Пасха. Светлый, радостный праздник. А у меня на душе нет той святой, всенаполняющей радости, которая захватывала меня всю без остатка прошлые годы. Отчего? Болезнь ли оставила следы – но разве могла она повлиять на это? – или, что другое… Не понимаю. После заутрени, раздевшись, я прилегла на минутку, перед тем как идти в столовую, и вдруг горячая, какая-то едкая слеза обожгла глаза. Фу, стыд. Пасха и слёзы! И я подавила их. Не знаю почему, но мне грустно всё это время. И только около тёти Анички становится немножко легче.
Был Гриша. С визитом, конечно. Ещё в окошко раскланялся, приветливо улыбаясь. А в столовой сидел какой-то придавленный, понурый. Бледный-бледный. Он страшно изменился за это время. А много ли его прошло? Только 3 месяца, от Рождества до Пасхи. Что с ним? У него такой жалкий, растерянный вид. А я и сегодня взяла тот же тон, какого держалась раньше. Но теперь он уж слишком резок, слишком груб. Надо будет быть помягче.
Он, говорят, участвовал в славянской манифестации. До сих пор я была не в курсе этого дела, а теперь папа рассказал, что манифестанты, по случаю взятия Адрианополя и ещё некоторых личностей, устроили шествие из Казанского собора в церковь Воскресения на Крови, а оттуда в Петропавловский собор, где возложили на гробницы Царя-освободителя и Александра III венок и крест из цветов. Во всё время шествия пелся гимн «Боже, Царя храни!» и «Спаси, Господи». И за всё это их похлестали нагайками, помяли лошадьми и многих заарестовали. Вот безобразие. За национальную манифестацию – нагайки и арест. Как не стыдно! Я бухнула на это: «Если бы я была там, я бы обязательно пошла!» И меня просмеяли: «Куда такому гнилью!» А Вшивцев прибавил: «Хочешь, чтобы опять арестовали?» Это ведь он намекает на мой шестинедельный арест в скарлатинном бараке.
4 часа дня. Были ненадолго у дедушки. Такая тоска! На обратном пути (шли по Пятницкой) встретили Лиду. Она, мне кажется, нисколько не изменилась – всё такая же интересная. Пошла нас провожать. Конечно, всю дорогу играли комедию по-прежнему. Нехорошо это, тем более в первый день Пасхи, но я не могу переменить тона. Удивительная слабость характера! Когда я думаю о ней или о Грише – я беру, хотя бессознательно, более мягкие выражения, когда же я говорю с ним – я говорю грубости. Проклятое неуменье взять нужный тон с человеком! Из-за этого неуменья больше всех, кажется, страдаю я сама <…>
Понедельник, 13 мая
2 недели после Пасхи пришлись мне солоно. Пробные и ответы перегоняли друг друга. 7-го сдала историю (письменный). Тема «Избрание Михаила Фёдоровича Романова и восстановление им порядка». Написала, говорят, на 5. Зато сегодня ответила отвратительно. Взяла 19 билет – Внутренняя деятельность Александра II и Конституция 1791 года. Конституция – ни в зуб! Земская реформа – тоже. Представления не имею. Следующий экзамен 24-го. Катя и тётя Юля едут в Кукарку до 21-го. Мне бы хотелось, да не знаю как.
5 часов. Еду, ура! Сначала начальница не отпускала, а потом разрешила с условием: не попадаться путешествующему попечителю. А я его и не знаю! По истории ведь 5 поставила! Вот несправедливость! За сочинение тоже 5, т. к. «автор правильно и красиво излагает данный вопрос» или вообще что-то в этом роде <…>
Суббота, 25 мая
19-го приехали из Кукарки. Вчера сдала последний экзамен. Сегодня ходили сниматься в Техническое училище, а потом завтракали у начальницы. Вчера же у нас был с визитом Борис и смешил до упаду своими рассказами, хотя сам всё время хранил серьёзный вид <…>
Слава Богу, с гимназией всё покончено. Некоторые жалеют, а я… о, нет! Ведь за 11 лет и не ученье может наскучить. И пока я ровно ничего не думаю о будущем. Не скажу, чтобы я была безумно рада окончанию, я отнеслась к нему почти равнодушно, только вздохнула полегче. И – всё <…>
Глава 4. 1914 год
Четверг, 6 ноября. Петроград
Я здесь, т. е. у З. Я., уже со вторника. Приехала к 5-ти часам. И в этот же вечер, до обеда, до 6-ти часов разложилась. Мне не то что скучно здесь, нет, а как-то неловко, холодно, чего-то не хватает. Не то музыки, семейного уюта, любящей руки, нежных или горячих поцелуев, дружеских пожатий руки и шутливых насмешек. Я не могу сказать, что моя комната неуютна. Она изящна, со вкусом обставлена – настоящий кабинет пожилой дамы. Но при скупом дневном освещении она немножко уныла, при свете люстры – пусто-холодна, и только когда на письменном столе горит маленькая электрическая лампочка под жёлтым абажуром с кружевами – точно согреваются кирпично-малиновые обои, золочёная спинка стула и мягкая обивка кресел. Шкаф с книгами и мой удобный широкий диван за моей спиной тонут во мраке. Надо отдать должное – заниматься здесь мне будет гораздо удобнее: полная тишина и целая комната в моём распоряжении. Ведь благодаря этой тишине – хотя, собственно говоря, я на неё почти не обращаю внимания, лучше было бы, если бы был слышен разговор, музыка – значит вернее, благодаря почти полному одиночеству я и пишу эти строки.
У З. Я. болит голова, она лежит, а мне заниматься не хочется. Не лежит сердце к этому abrg de «Histoire des rapports de Eglise et de Etat en France de 1789 `a 1870» Debidour`a (Дебидур А. История отношений церкви и государства во Франции в 1789–1870. Париж, 1898. – Ред.). И так тосклив Laronde. Зато я в восторге от другого француза – Перно (не знаю, как пишется по-французски). Была сегодня в первый раз у него на уроке. Впрочем, он и читает только, кажется, во второй раз. Он всё время говорит по-французски, спрашивает читать курсисток, у них же выспрашивает значения тех или других слов посредством синонимов и противоположений, заставляет курсисток говорить по-французски эти коротенькие фразы, понимает их по-русски только при переводе – словом, заставляет работать. И читают Voltaire и Zola. А Laronde со своим abrg (резюме. – Ред.) и плоскими шутками, со своим удивительным знанием русской грамматики и типично-русских выражений, стал мне почти противен. Если мне можно ещё попасть к Перно – запишусь, хотя бы экзамен пришлось держать в самом конце года. Но у него я узнаю так много, у него буду с удовольствием заниматься.
Лосского у нас не было сегодня. И я прошла к Юдиным. Е. А. так меня встретила, что я почувствовала себя если не на «седьмом небе», как говорится, то совсем, как дома. Тётя была совершенно права, когда говорила Л. И. про меня: «Она там у своих».
Лапшин, наш психолог, отчасти был прав, когда говорил, что «в дневнике человек всегда представит себя гением, чем он есть на самом деле: или гораздо хуже, или гораздо лучше, и тогда будет считать себя непонятым. Чистой правды, всей правды он в дневнике никогда не скажет». Я согласна с этим отчасти. Я ни одному человеку в мире, по крайней мере, сейчас не скажу, что меня беспокоит, что заставляет страдать и плакать скупыми слезами с окаменелым или искажённым лицом, или, что вызывает сияющую, торжествующую улыбку. Об этом я не скажу, да и не напишу также, кроме разве слабого намёка в своих нескладных стихах. Да. Но зато всё, что касается моей жизни, менее интимной что ли, то я постараюсь выразить её, сжать и, тем не менее, полно и, если здесь также не будет всей правды, то только лишь потому, что всякая «мысль изреченная есть ложь», т. е. потому, что слова бессильны выразить мысль во всей полноте её духовной стороны. Конечно, это последнее относится ко мне, и только ко мне, потому что ведь я же не знаю, может быть, кто другой и сумеет это сделать <…>
Пятница, 7 ноября. 1ч. 25 мин. дня
Недавно вернулась с Курсов и только что кончила об[едать], нет – завтракать.
Сегодня день смерти Толстого, и у нас на Курсах закрыты все лавочки. Теперь идут общие лекции о Толстом Котляревского и Булича. Я с удовольствием осталась бы послушать, – мне и билет был дан, но я точно и определённо сказала З. Я., что вернусь к часу. Искушение было велико, но остаться я не могла, – ведь это не дома, не у Юдиных! – тем более что вчера опоздала на целый час <…>
Глава 5. 1915 год
14 января
Я снова здесь. С 12-го. Это мои первые именины в холодном, унылом одиночестве. Юдины не придут. Е. А. кашляет, у Леночки болит горло. Ну, что же. И Клавдии я не написала, значит – она тоже не будет. И лучше. Не нравится мне она нынче. Только бы Гриша не вздумал придти. Ведь он может от З. А. узнать мой адрес, я сказала ей, что пока старый останется. Сегодня мне бы этого не хотелось. За то полугодие я была уверена, что этого не случится, а нынче – нет. Хотя со мной, да и вообще, теперь он сдержан и, пожалуй, будет приличен и здесь, в этой зелёной гостиной с мебелью красного дерева.
Что писать, что думать? Видела во сне тётю Аничку, наливала ей чай, а тут же сидела А. А., потом мыла какую-то картину и рассматривала старинные, широченные платья, потом ещё что-то – не помню, что!
Буду ли я сегодня прилична в этом поминальном обществе? И надо ли мне пойти на заупокойную обедню? Это в именины! Думаю, что этому я не обязана. Такой исключительный день, что снимает, по-моему, подобные обязанности. Минут через 5 пойду к обедне. Потом, сегодня же постараюсь! Напишу, как прошло Рождество, всё напишу… впрочем, нет, – всего вероятно не напишу. К чему обманывать, – в некотором я и себе боюсь признаться, признаюсь с трудом, точно потихоньку от самой себя и этого, конечно, не напишу. Ну, пошла.
4 часа
Только что напились чаю. Генеральша сидит у себя, а я у себя и пишу. Я хотела описать Рождество. Ну, хорошо. После утомительных, но весёлых дежурств на льготу, так противоположных по настроению с днями, следующими за провалом на французском экзамене и после покупки железнодорожного билета я (в тот же день) поссорилась с генеральшей. Впервые она на меня рассердилась за то, что я не решилась пойти с ней в гости к каким-то тётушке и дядюшке Е. А. Мне – провинциалке, это показалось дико, у нас не ходят в гости к людям, которых видели всего каких-нибудь 5 минут, и для которых ты представляешь пустое пространство. А она не поняла и обиделась: «Как будто это вас ведут в какой-нибудь неприличный дом». Этот день был для обеих пыткой. Ей было горько до слёз, а мне – страшно неприятно, что я выдала такую штуку почти перед самым отъездом. Это было 6-го. По обстоятельствам я была, безусловно, виновата, ибо я ей многим обязана и должна была поэтому исполнить даже её прихоть. Нечего скрывать, она так думает, и поэтому мне надо было извиняться, что я и сделала вечером, часов в 11. Дело кончилось на следующий день утром объяснением, которое пояснило мне всё, а ей не дало ровно никакого объяснения моего поступка, но ведь достаточно, что я «сознала, что поступила бестактно». Миша потом говорил, что надо бросить все условности, тогда и не будет подобных столкновений. Но ведь здесь этих условностей так много, гораздо больше, чем у нас, а Миша советует откинуть всё вятское, пока я живу здесь. Постараемся.
До 10-го мне всё же было трудно, чувствовалась натянутость, но в день, а особенно в момент отъезда она исчезла. Я уезжала 10-го вечером. Пришлось помучиться в дороге, т. к. ехали солдаты и мужики, потом грудные младенцы с не перестающей музыкой, режущей уши. Благодаря этим соседям и Вере Зубаревой, да заодно и студенту, кстати сказать, нашему благодетелю, мы большую часть времени проводили на площадке, что и подбавило мне простуды, так что домой я приехала с ужасным кашлем, который не прошёл ещё до сих пор. Меня встретил папа. Мы приехали домой в 4 часа. Всё было так хорошо, так уютно, так мило и близко. Опущенные шторы, цветы, огоньки лампады, полные застолья в столовой и шумящий самовар, и чудесный суп без всяких приправ, всё такое уютное, маленькое, хорошее. Не хватало только Зины и Кати. Я забыла там, что мне уж около 22 лет, забыла, что я курсистка – дурила с ребятами или ходила по пятам за тётей Аничкой, когда она была дома. Рассказывала или наоборот молчала – было так хорошо, что и язык не ворочался. Из-за кашля меня засадили дома, но я успела всё же сбегать с тётей в театр на благотворительный спектакль в пользу раненых («Первые шаги»), к «дедушке» Витту и, в сочельник, ко всенощной в гимназию. Потом засела дома.
Была у меня Лида, кажется, на второй день, мы поговорили. Этот разговор ни к чему не привёл, можно это сказать смело. Мы будем бывать друг у друга, вероятно, будем даже понемножку переписываться, но… не больше. Всё то, что налаживалось, всё это пошло насмарку и больше не возобновится. Но мне теперь это не жаль. Будь это полгода, даже меньше, гораздо меньше тому назад, всё могло бы быть иначе. Потом я стала выходить, Никольский позволил, предварительно запретив говорить на улице. Почему только и он, и Аксаков добираются: не болит ли у меня грудь? Где я была – перечислять не стоит. Кто у меня был – тоже. Никого интересного. Для меня, пожалуй, интереснее всего нынче была З. А., а из совершенно незнакомых – квартирант Плесских, не то немец, не то поляк. Вернее поляк, т. к. он Иван Адамыч, а фамилии я не знаю. Он смешон, но почему-то интересен, вероятно, потому что о нём очень мало известно, но оказался невежей, благодаря необычайной скромности и стеснительности, как говорят. Кто его знает? Что значит эта чрезмерная скромность? Но он очень сведущий господин по части военных действий.
Ну, так вот, я жила себе жила, блаженствовала, рисовала, главным образом, картину Г. А., писала письма и получала их. Одно написала Е. А. Ю. такое, что, пожалуй, можно подумать – девица немножко того! Получила от Сони 3., от Леночки, от моей здешней Лиды, от генеральши и от Г. А., милой, хорошей Г. А.! Я к ней думаю отправиться завтра. Была и ещё 2 раза в театре на пьесах «Кинь» и «Закат».
10-го выехала из Вятки, 12-го оказалась здесь. Приехала около 4-х часов дня. С генеральшей встретилась прекрасно, даже расцеловались. У неё был гость, Михаил Степанович Введенский, приехавший из Хабаровска, посоветоваться о глазах. Он бывал каждый день. Ужасно интересный старик. Живой, подвижный, умный, много видавший и умеющий всё прекрасно рассказать, всем интересующийся, удивительно интересный и пресимпатичный старик. Напишу в другой раз о том, что он говорит о войне и о всяких разных вещах.
Вчера ездила на курсы к Клавдии, – завозила ей туда перчатки, и к Юдиным – повезла им все разности. Ленуханька, моя милая девочка, нарисовала мне две картинки, но я забыла их вчера взять с собой. Получила вчера от Зинки-Зелья уже поздравительную открытку. А из дому ещё ничего. Что ж это они запоздали? Ведь знают же, что я в именины одна.
Одна, но мне не скучно. За этим письмом, за французской газетой и словарём, даже за столом и в гостиной, слушая эту славную маленькую попадью, «карманную жену» дрезденского батюшки, что живёт теперь на Волковом кладбище.
Ах, да! Генеральша, кажется, может забыть историю 6-го декабря. Она подарила мне сегодня почтовую бумагу с цветочками. Хоть бы так. Ну, до завтра <…>
Глава 7. 1917
4 февраля, суббота. Вятка
А я дома и не думаю ехать в Питер. Неделя прошла уже с того момента, как пришлось мне узнать о том, что… что «мечтам и годам нет возврата…» В воскресенье был Шмелёв. Поражена катаральным состоянием верхушка правого лёгкого. И ехать – думать нечего. «Это не опасно, только надо беречься… Не падайте духом». Но при этом – ни одного прямого взгляда на меня. Это уже подозрительно – вот эта предыдущая фраза, но что же делать, – пришла мне сегодня в голову. Вероятно потому, что мне сегодня трудно дышать (это уж виновата мамина болезнь и взаимные отношения наших – но об этом после) и болит в правой части грудной клетки, вверху. Вот во что обратился бронхит, тот отчаянный кашель, от которого я задыхалась и думала уж, что умру в один из таких приступов. Но вот, не умерла, только в лёгкие спустилось – ведь они у меня подготовлены ко всему кубическим воспалением.
И тётя особенно настаивает на окончательном излечении, как и Красовский, который задержал меня здесь после Святок, сказав маме: «Надо дать ей поправиться. Бронхит серьёзный. Лечиться долго». Так ведь он у меня и тянется-то долго. В ноябре, 24-го я засела уже дома там, в Питере, а кашель и неделю перед тем был.
Там двое меня лечили, и своим судом я лечилась и, как будто, кашель стал проходить. Но надо было ехать. И в вагоне душном от невероятного количества человеческих тел было так жарко и так невозможно дышать, что всё это солдатьё, мужичьё и прочее пооткрывало окна. Как раз надо мной. От жары я обливалась потом, и начинала было чувствовать, что мне от этого легче, и вот открыли окно. Я закутывалась всем, что было под руками, но пот исчезал. Застывал просто. Ах, какая я приехала красивая домой! Грязная, бледная, с измятым от бессонницы и утомленья лицом, с красными глазами… Фи! В этот же день сходила в баню. А потом потянулись дни, полулежащие в постели и креслах, и ночи, с задыхающимся кашлем. Казалось, вот-вот не хватит воздуху и конец. Всё внутри переворачивалось и доходило до рвоты. Как-то выплюнулось несколько ниточек крови. Но мокроты, которой я захлебывалась в Питере и которой в моих лёгких и бронхах вырабатывалось такое поистине невероятное количество, – не было. Никольский был. Денька 3 дома посижу, а там – пройдёт. Проглотить десяток порошков и будет.
Приехал Молчанов. Этого видела в первый раз. Молодой, но симпатичный. Тёплые руки. И… и он не доктор. Доктору не полагается так чувствовать, что в его руках женское тело. Ну, и от этого никакой пользы не было. Посидеть до Рождества (это – 3 дня) и поесть 10 порошков. Впрочем, он глубокомысленно изрёк, что собака сидит, вероятно, в бронховом узле, что это значительно лучше, чем, если бы она кусалась из-за сети мелких бронхов (конечно, он о собаке не упоминал) и что «шейка» у меня «длинна». Разумеется, это о шейке дыхательной, но… можно было бы об этом сказать иначе. Итак, этот молодой не доктор исчез, посоветовав «устроиться» так, чтобы порошков не принимать больше. Я с ним простилась с лёгким сердцем и с тем, чтобы «постараться» не видаться с ним больше для консультации. А потом, на второй день Рождества, появился старый знакомый, ещё мамин врач, Красовский. И тут-то настало первое разочарование: – бронхит очень серьёзный, лечиться долго. Отъезд отложить. Малокровие внушительное. Хорошенько поправиться и долго пить мышьяк и диастол. Это было внимательно и добросовестно. И я благодарна была его откровенным словам. А потом, когда мама была у него подписывать лекарства, он и сказал, что ехать сей девице нельзя. И она мне этого не сказала, и я жила до 29-го в надежде на отъезд, и с волнениями из-за своих курсовых. В воскресенье Шмелёв решил всё. Слова Красовского закрепили решенье, и с этих пор до сегодня я пишу письма Юдиным <…>
12 февраля, воскресенье
Сегодня мне было хорошо. Так ярко было солнышко, и такой милой стариной веяло от давно полученных писем. Я сортировала их сегодня. Так, механически. Только 2–3 перечла. И захотелось написать З. А. что-нибудь. Написала открытку о счастье. Смешно… Ведь обе здесь живём. Но когда ещё я смогу пойти куда-нибудь. И потом мы в письмах лучше разговариваем, – спокойнее и находчивее. Сегодня получила письмо-открытку от Маруси Ш. Пишет, что «хорошо, что вы не приедете сейчас. Здесь трудно жить в продовольственном отношении. Ждём больших событий». Так хорошо написано! Папе очень понравилось тоже. Вообще, там что-то назрело, скоро прорвёт. С часу на час ожидать можно. А я здесь! Всё, всё, начиная с убийства Распутина, случившегося через 3–4 дня после моего отъезда, – всё пройдёт без меня. А так интересно. Уж там-то что-нибудь уж можно было бы узнать. А так, интересно. Э-э-х! И какого это, забрала меня… моя болезнь! А ведь ничего, сидя здесь, не увидишь! Сегодня 12-е. О, они (т. е. Юдины, разумеется), конечно, уже получили мою посылочку – портфель, книгу, письма. И какое впечатление всё это произведёт на них? Соня, вероятно, будет удивлена и недовольна. Но не очень поражена. Неясное предупреждение с билетом уже заронило в её голове какое-то подозрение и сомнение, как видно из последнего письма. Но недовольна будет. Теперь обо всём придётся писать и ответ на это придёт не раньше 10-ти дней. Вот это ей неприятно будет. Ленушка поскучает чуточку и забудет. Она последнее время обо мне мало думала. Миша… ну, точно я тут ничего не могу сказать. Я ему должно быть надоела своим бесцветным пребыванием у них <…>
16 февраля, четверг
Однако, ну и публика есть на Руси. Объявилось какое-то общество «Общественный союз», которое проповедует, что 5-я Дума не может быть хуже 4-й, если выборы произвести… по куриальной системе с участием полиции. А этих думцев – т. к. они почти все подлежат призыву – изолировать от общества, что является уже делом воинских начальников, а этим последним можно сделать соответствующее внушение. А там уж и о евреях заговорили. Ну-у, известного сорта люди в этом обществе. Записка подана Протопопову*. Тому Протопопову, цензура которого вымарала письмо Милюкова**, который призывал к спокойствию и мирным занятиям рабочих заводов, очевидно, несколько возбуждённых агитацией «сухопарого Милюкова», «брюнета», говорившего на заводах, звавшего в день открытия Думы рабочих к зданию Таврического дворца для разных требований.
Вот выступление-то этого «сухопарого Милюкова» и послужило поводом подачи записки. Неужели же члены этого громкого союза не видят дальше своего носа? Ведь вот я совсем дура и в политике смыслю столько же, сколько свинья в апельсинах, а и то рассудила это так, что и «сухопарый Милюков» подложный и что распускать Думу… Боже сохрани! Вот если бы Протопопова попросили так вежливенько: «Извольте вам выйти вон», – то это было бы великолепно. Впрочем, он вежливо – не понимает. Должно быть надо пинка дать. Ох, совсем самолюбия нет у человека! Ведь уж давно-давно ясно говорят: «Чего вам тут делать? Право…». Конечно, не этими словами, а понять можно. Уж, если я понимаю, так… не может быть, чтобы министр совсем бестолковый был. Но нужен ли он кому-нибудь? Не прикрываются ли им и потому держат так долго? Непонятно. Но и нехорошо уж очень. Некрасиво. А о новой-то Думе?! Фу! Совсем как 1861 г. при создании первого парламента в Италии. Там и депутаты избирались куриями и под непосредственным наблюдением полиции. За целый век вперёд ни шагу. Срам себе признаться, а не то что в люди сказать.
А впрочем, это не очень-то моего ума дело. Что же касается равноправия евреев или, по крайней мере, разрешения им приобретать повсеместно недвижимую собственность – так у нас на курсах, в ту большую сходку, когда читали (ещё до Рождества), политую красными чернилами, но дошедшую к нам, речь, так об этом говорили много. Я не помню и не всё поняла, что они говорили по этому поводу. Я вообще немного понимаю в политике, какой бы то ни было. Помню только, что по этому поводу было много горячих разговоров и многие кричали: «Почему только одним евреям. Уж если равноправия… – так всем! Какая такая привилегия евреям!» – и в резолюции, кажется, было постановлено, что всем.
Ну, Бог с ней с политикой. И как-то зло сердце сжимается, и брови сводит нехорошо, и дух захватывает в груди, когда читаешь эту прелесть. Лучше – о другом. От Юдиных всё нет ничего, никаких известий о портфеле. Неужели он потерялся? Ой, ой… нет, лучше и об этом не писать. А вот о чём. Вчера утром был у нас Юлий Глазырин. Приходил проведать сестрицу, а вернее – поговорить с Ник. Вас. И брат, и сестра, и мамаша к нему питают большую симпатию. И до чего хорошо Юлий разговаривает с дядькой! Мне так нравится. Вообще он комичный. Не передать всего юмора его речи, всего комизма этого сочетания слов с мимикой и тоном. Надо быть большим художником и ловко владеть пером, чтобы это воспроизвести. А хочется попробовать. Люблю писать, только редко пишу, так как уж очень досадно бывает, когда не выходит-то ничего. Вообще лица у меня не выходят. Сегодня рисовала Рубинштейна с картины Репина. Углём. Так стирала раз до десятка, а нарисовала, наконец, так, что вышло похоже на Ив. Вас. Аксакова. Рубинштейн и Аксаков… Что общего? Но, право же, до слёз обидно и досадно, что и когда не выходит. И сегодня уж не один раз швыряла тряпку и угли. Но сделаю же я его ещё раз. Теперь уж красками. Всего досаднее, что не выходит именно то, что мне больше всего хочется нарисовать – лицо. Ах, какая досада. Ведь вот Зине же удаётся, и ещё как! Подчас я ей завидую, право. Хоть и считаю это нехорошим. Не таков уж мой удел – делать всё, что я признаю худым. И не делать ничего положительно хорошего. М-м-м… как гадко. Хоть бы что-нибудь.
* Протопопов Александр Дмитриевич – последний министр внутренних дел царской России, один из вдохновителей реакции, основатель монархической газеты «Русская воля».
** Милюков Павел Николаевич – русский политический деятель, лидер Конституционно-демократической партии, историк, министр иностранных дел Временного правительства.
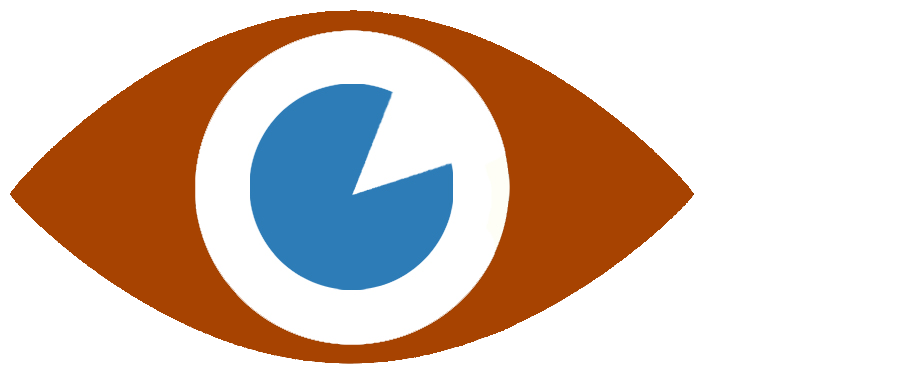 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих