Воспоминания Николая Геннадьевича Лермонтова
о детстве и о Паоло Трубецком
Н. Г. Лермонтов (1901–1965) – один из последних родственников поэта. В детстве был увезён во Францию. В зрелом возрасте вернулся на родину, был репатриирован в Киров, где жил с 1947 по 1962 гг. Работал экономистом-плановиком в автохозяйстве. Скончался в октябре 1965 г. в Москве и похоронен на Донском кладбище. Свои воспоминания в конце 1950-х годов писал для журнала «Огонёк», но они не были опубликованы. Рукопись поступила в Кировскую областную научную библиотеку им. А. И. Герцена от Р. Я. Лаптевой и В. А. Криницына, когда-то работавшего в автохозяйстве вместе с Н. Г. Лермонтовым.
Вскоре по моём возвращении на родину я использовал свой очередной отпуск для поездки в Москву.
В те времена, 1948–1949 годы, ещё ощущались последствия войны и, чтобы попасть в летнее время на поезд, надо было преодолеть большие трудности.
Первое препятствие на пути в Москву я взял легко: получил в городской бане справку, что я и мои вещи прошли процедуру дезинсекции (в рукописи – «дезинсектации»). Получил тут же, не отходя от кассы. Меня окинули опытным взглядом, видимо, признали достаточно чистым, и мне была вручена нужная справка. Тогда эта справка красочно называлась «вшивым билетом».
Я был окрылён лёгкой победой, но радостное настроение убывало по мере моего приближения к вокзалу. Чем ближе к нему, тем больше чувствовалось движение масс, а вид привокзальной площади и вовсе сбил мой энтузиазм.
Вся прилегающая к вокзалу территория представляла собой хотя и временный, но устойчивый лагерь. Толпы народа, именно толпы, груды поклажи, тюков и багажа, представленного всеми видами упаковок: от архаических сундуков прошлого века до элегантных фибровых (чемодан из прессованной бумаги. – Н. Л.) и кожаных чемоданов с привязанными к ним чайниками, этими неизменными спутниками сколько-нибудь длительного путешествия. И среди всего этого – беспрерывное движение людей как праздно шныряющих в разных направлениях, так и деловито куда-то устремлённых.
Огромные очереди у билетных касс. Палящее летнее солнце, ни малейшей тени. Жара. Измученные, невыспавшиеся женщины и неунывающие дети.
В толпе встречаю нашего шофера. Оказывается, он уже третий день пытается отправить своих стариков.
Казалось, что уехать невозможно, но желание попасть в Москву, в город, где я родился, учился и прожил первые годы юности и где я не был вот уже почти тридцать лет, было так велико, что невозможное стало возможным. Мне повезло.
Я стоял с чемоданчиком и уныло раздумывал о том, что мне не уехать, и, тем не менее, не уходил, бессознательно ожидая какого-то чуда. Мой удручённый вид привлёк внимание жившего неподалёку моего сослуживца, помощника нашего снабженца. Этот милый молодой человек, расспросив меня, почему у меня такой растерянный вид, чисто по-русски «пожалел» меня. Он совершенно бескорыстно и просто так обещал попробовать мне помочь. Оказалось, что он знает весовщика, у которого свояченица работает билетным кассиром. Условились, что я подожду, а он сходит на разведку. Оказалось, что она работает во вторую смену и надо придти к вокзалу вечером. Встретились. Наконец, пропустив несколько поездов, я всё же получил билет, да ещё с плацкартой!
С тех пор прошло более пятнадцати лет, а я до сих пор вспоминаю о милом Николае Яковлевиче с нежной благодарностью. Я доставил ему немало хлопот, а он был движим порывом души незаинтересованно помочь человеку.
Итак, я в поезде. Жив, курилка! Я еду в Москву, мою Москву – Москву моей юности. Другой – новой – я ещё не знаю. В Москве я должен остановиться в семье Владимира Ильича Толстого – внука Льва Николаевича. Он и его брат с семьями вернулись на родину из Югославии на полтора года раньше меня. Они вновь москвичи. Получили хорошие квартиры, сыновья ходят в старшие классы, успели акклиматизироваться и пустить корни. Будет так приятно попасть в семейную обстановку, поделиться мыслями и впечатлениями после первого по возвращении на родину года, прожитого в далёком городе Кирове.
Правда, в Москве жили мои далёкие родственники и давние знакомые, но как я, так и приехавший со мною двоюродный брат, были для них нечто вроде марсиан или людей, свалившихся с Луны. Мы знали и понимали, что они нас боятся, как чумы, и нисколько их в этом не обвиняли. Везде мерещилась карающая рука Берии, а общение с нами, так думали они, могло повлечь большие неприятности, а, может быть, и репрессии. Стоило ли, даже при большом желании их повидать и ради радости кратковременной встречи оставлять за собою страх и вечное ожидание обвинений и кары? Может быть, потом, когда мы обживёмся и нас не «заберут», мы сумеем с ними найти общение.
Так думали мы и, забегая вперёд, оказались правы, главное, времена радикально изменились: уважается законность, восстанавливается справедливость, и долго царивший гнёт Берии развеян и отходит в прошлое.
Раздумывая о своём марсианском положении, я приближался к Москве. И пусть не думают, что мои мысли – это плод досужего воображения. Нет, на первых порах моего пребывания на родине я испытывал это чуть ли не на каждом шагу. В случайных встречах, в некоторой части сослуживцев и в «мелком» начальстве, да и в прежних знакомых мы вызывали любопытство и некий интерес, но, одновременно и очень определённо, являлись людьми какого-то потустороннего мира. Да, своего рода марсианами или белыми воронами. В то же время, чем ниже было занимаемое положение человека, тем легче было наладить с ним отношения, а рабочие гораздо смелее шли на сближение. Так, у меня установились хорошие и добрые взаимоотношения с шофёрами и ремонтными рабочими нашего автохозяйства, которые долгое время принимали меня за француза. Коли приехал из Франции, значит – француз, однако это не мешало их сочувственному отношению ко мне. Хотя мне и горько было слыть за иностранца, но, может быть, это была расплата за долгое отсутствие из России (так в рукописи. – ред.)?
Какая ирония судьбы! Надо было приехать в Вятку из Парижа, чтобы сделаться «французом», а там я не хотел, да и не мог им стать из-за своей русской сущности.
Но вот и Москва. Еду на Таганку, где как-то особенно бросаются в глаза контрасты строящегося города.
Здесь ещё крепко стоит окраина старой Москвы с маленькими деревянными, в своём большинстве одноэтажными домиками, на которую неудержимо наступает Москва новая с домами-гигантами, с их десятью-одиннадцатью этажами. Они, как некие великаны, бережно переступают через своих маленьких собратьев. Волею судеб, а в данном случае судьба воплощается в плане реконструкции Москвы, одноэтажные домики с очень живучей геранью на подоконниках находятся рядом или вкраплены между современными громадами. Это особенно подчёркивает поступь нового и отмирание старого, выполнившего свою миссию, но более не нужного, отжившего свой век. Москвичи как будто не замечают этого. Может быть, так к этому привыкли, а, может быть, и нет времени этого заметить? Нам же, приезжим, да ещё таким, как я, не бывшим в Москве почти тридцать лет и приехавшим из-за рубежа, эти контрасты дают пищу для размышления и осмысления огромных сдвигов, происшедших за эти годы.
Подымаюсь на лифте на 7 этаж и попадаю в объятия своих друзей. Встреча для меня более чем радостная: верные друзья, близкие по духу, почти одновременно со мной вернувшиеся на родину. И у них, и у меня накопилось множество новых впечатлений. Есть о чём поговорить. Мой милый хозяин, как и я, большой спорщик, а тут ещё его юные сыновья подливают масла в огонь: они молоды, горячи, с этих позиций они всё и рассматривают. Мы, старшие, покидали Москву примерно в их возрасте. У нас теперь уже есть жизненный опыт, воспринимая новое, мы не можем не вспомнить прошлое, не можем не сравнивать. Молодые «подкованы» только что, им легче, а нам приходилось кое от чего отказываться, кое с чего отряхивать нафталин. Но всё это только вносило некую остроту и увеличивало интерес нашей «диалектики». Мы проходили период «обкатки», и, может быть, наши споры позволили мне скорее понять и освоиться с жизнью новой России.
Первые дни после приезда брожу по Москве, по когда-то знакомым улицам. Вот Большой Знаменский переулок, дом № 17 (Большой Знаменский переулок расположен параллельно Гоголевскому бульвару, он ответвляется от ул. Знаменка и выходит на ул. Волхонка напротив Храма Христа Спасителя, который Н. Г. Лермонтов видел в детстве ежедневно. В 1947 г. на месте разрушенного Храма Христа Спасителя находился котлован строящегося Дворца Советов, высотного здания с фигурой Ленина вместо шпиля. Но упоминать в своих воспоминаниях о разрушенных храмах автор в то время, конечно, не мог. – ред.). Здесь я жил последние годы до Октябрьской революции. Вхожу во двор. Всё по-прежнему, как будто ничего не изменилось. Вот и чердак, на котором я держал когда-то своих голубей. С плеч мигом слетают тридцать лет, и чудится, что вот-вот появятся Володька и Толя, мои приятели и соперники по голубиным делам. Я весь охвачен прошлым, настолько поглощён им, что мне кажется, будто я только что возвратился из гимназии домой после занятий. Хочу войти в дом. Знакомый подъезд, всё тоже деревянное крыльцо, всё та же входная дверь. Поднимаюсь и вижу список жильцов. Да! Их раз в десять больше прежнего, и ни одного знакомого имени. Это возвращает меня к настоящему. Хочется узнать, что стало с картинами, а их в доме было немало. Куда попал, да и попал ли вообще куда-нибудь, «Портрет монаха» Тициана. Где пейзаж с закатом солнца Воробьёва, где большое полотно Бота? Что стало с ними? Эти вопросы я задаю себе до сих пор, и они нисколько не вызваны собственническим духом.
Тогда, в 1948 году, я имел тридцатилетний стаж пролетария, и, глядя на дом, в котором когда-то жил и где висели все эти и многие другие картины и стояли изумительные музейные экземпляры мебели стиля ампир, чувство частной собственности во мне давным-давно совершенно исчезло, если таковое когда-либо и было. Но жаль, жаль для человечества и культуры, если эти картины пропали, не принеся никому радости, пропали без толку только потому, что люди, к которым они попали, не знали, с какими духовными ценностями они имели дело. А, видимо, это так и случилось. По письмам моей няни я знаю только то, что в 1919 году большим портретом моей прабабушки, написанным известным мастером, и громадным полотном Яна Бота новые жильцы пользовались как ширмами, и на них сушились пелёнки! В те годы становления советской власти руки до всего не доходили, да и собрать все ценности было невозможно. Лес рубят – щепки летят! Но жаль, когда в щепки превращаются творения Тициана!
Когда я направлялся в Третьяковскую галерею, у меня был план быстро обойти все залы для общего ознакомления, а уж затем я буду посвящать свой приход тем или иным художникам, особо заинтересовавшим меня. Интересно всё, но необъятное объять невозможно, как говорил мудрый Кузьма Прутков, а потому я думал «обнимать» по частям. Это мне подсказывал мой личный опыт посещения большинства крупных европейских музеев.
Меня ещё с самого детства таскали по музеям. Говоря «таскали», надо понимать почти в буквальном смысле слова: тащили за руку в насильственном порядке, за что я благодарен матери по сей день уже не столь короткой жизни. Так постепенно я научился ценить и наслаждаться красотой и мастерством искусства. Я помню – это было в Трианон – мне было лет 9–10, мы с матерью стояли в парке на берегу пруда и смотрели на бесподобную, расположенную на островке беседку «Храм любви» («Temple dў amous». – Н. Л.). Была пора золотой осени с замечательным освещением заходящего солнца, что создавало особую атмосферу для восприятия всего прекрасного. Вдруг я получил от моей матери сильный подзатыльник. Я был поражён. Что случилось? Меня никогда так не наказывали, а сейчас и вообще было не за что. Мать положила мне руку на плечо и сказала: «Хочу, чтобы ты запомнил на всю жизнь, какая это красота!».
С тех пор прошло более полувека, а я помню, как будто это было вчера. Я не только помню, но, закрыв глаза, я даже физически ощущаю созерцаемую нами тогда красоту, теплоту солнечного света, всю гармонию природы и искусства. Видеть столько прекрасного в природе и искусстве, сколько выпало на мою долю, – это большое счастье и большая жизненная школа. Уметь наслаждаться красотой природы и высоким мастерством – это большое утешение и помощь «…в минуту жизни трудную»…
Я хожу по залам Третьяковской галереи. Трудно выдержать намеченную мною прогулку: идти, не останавливаясь у той или иной картины. Глаза разбегаются, столько здесь прекрасных картин. Но времени в обрез, и я заставляю себя двигаться всё дальше, чтобы успеть хотя бы обойти все залы. Судьба, однако, сулила мне иное. Вхожу в одну из зал (так в рукописи. – ред.) и останавливаюсь в изумлении: прямо передо мной столь знакомая мне с детства статуэтка, бронза, под названием «Девочка с собакой» Паоло Трубецкого. Если не эта, то точно такая стояла у нас в гостиной. Ведь девочка – это я! В ту пору, в начале века (имеется ввиду XX в. – ред.), была такая мода: мальчики лет до 4–5 носили платьица и полудлинные волосы почти до плеч. Эта мода не миновала и меня. Отсюда и название скульптуры.
Перевожу глаза и вижу другую бронзу «Девочка с зонтиком». Это портрет моей матери. У нас на Знаменском переулке висел пастель-этюд. Моя мать, двоюродная сестра Паоло, стоит у пруда с зонтиком. Я хорошо помню этот этюд, так как в детстве всё удивлялся, что скульптор так хорошо рисует. Пастель трудно сохраняется, и картина была несколько смазана, местами как бы в тумане, что в моих глазах придавало ей ещё большую поэтичность. Должно быть, из-за этой порчи этюд в хорошей раме висел в довольно странном месте – в ванной комнате! По нему и была выполнена скульптура.
В том же зале, почти рядом, бронзовая статуэтка «Мать с дочерью» – портрет сестры моей матери. А вот и головки двух мальчиков. Эта скульптура, кажется, называется «Дети». Это мои двоюродные братья, сыновья Сергея Николаевича Трубецкого, профессора, ректора Московского университета. Когда-то фотография этой скульптуры украшала школьную хрестоматию русского языка. Тогда ещё никто не мог предвидеть, что старший из мальчиков, Николай Сергеевич Трубецкой, станет видным учёным-филологом и членом Австрийской Академии наук.
Не знаю, какая случайность соединила все эти скульптуры в одно место. Потом мне много раз приходилось бывать в Третьяковской галерее, но такого сочетания скульптур я уже не видал.
Как же мне тогда было не остаться в этом зале? Там, где словно нарочно для встречи со мной собралось столько родственников. Ведь я попал нежданно-негаданно к себе в семью, в круг горячо любимых мной людей, пусть запечатлённых с полувековой давностью. И ко всему этому ещё я, уже седой и умудрённый жизнью, встретился с самим собой начала века, когда я делал свои первые в жизни шаги и позировал в платьице с собакой.
Разрыв в пятьдесят лет. Казалось бы, немного, но как предельно насыщено оказалось это время большими и малыми событиями как для всего человечества, так и для меня лично. И какими историческими событиями: четыре войны, три революции, построение социализма, а для меня и жизнь за рубежом, и такое большое для меня событие, как возвращение на родину. Даже если принять во внимание мой возраст, я не был непосредственным участником всех этих событий, то всё же жить пришлось мне в эту пору и в атмосфере, на которую каждое событие имело своё влияние.
Я долго стоял как зачарованный в кругу скульптур. Я уходил и возвращался, и снова уходил, унося с собою столько воспоминаний о своих, а мысли невольно обращались к автору статуэток, скульптору Павлу Петровичу (Паоло) Трубецкому. Я знал его по кратким встречам в Париже и Италии, но, главным образом, по рассказам моей матери и старших родственников.
Тогда в Третьяковской галерее мне хотелось как-то излить наполнившие меня мысли и чувства, хотелось сказать: «Посмотрите, товарищи, я только что приехал в Москву и сейчас тут совсем один, а вот судьба мне приготовила такую встречу с родными». Но я удержался. Ведь посетителям могли только нравиться или не нравиться эти скульптуры чужих для них людей, а об их авторе, скульпторе Паоло Трубецком, они, и не по их вине, почти ничего не знали. Даже И. Грабарь в «Истории русского искусства» говорит, что ничего не может сказать о биографии Трубецкого. О его произведениях, по моему мнению, говорит довольно туманно, скорее хорошо, но определённо не одобряет памятник Александру III.
Не претендуя на роль биографа и ещё менее историографа Паоло Трубецкого, всё же я должен передать для будущих жизнеописателей этого замечательно талантливого самородка даже то немногое, что я знаю о нём. Это, скорее, отдельные эпизоды его жизни, маленькие чёрточки его характера.
Отец Паоло, Пётр Петрович Трубецкой, брат моего деда, уехал за границу и пробыл некоторое время в Америке. Там он ухитрился жениться на американке (кажется, она была скандинавского происхождения), совершенно забыв по рассеянности, что он женат, что его законная супруга проживает в Москве. Когда он собрался возвратиться в Россию, то его предупредили, что, как только он пересечёт границу, то, должно быть, сразу будет взят под стражу и, во всяком случае, судим как двоежёнец. Ему объяснили, что ему угрожает присуждение не менее пяти лет каторжных работ. Как говорят, это было полным сюрпризом для рассеянного и беспечного Петра Петровича. Он перебрался в Италию и просил свою первую жену дать ему развод, так как у него есть дети от второго, не законного с точки зрения русского законодательства, брака.
Но оскорблённая законная супруга так никогда и не дала развода Петру Петровичу, ему пришлось обосноваться на севере Италии, на так называемых Итальянских озёрах, на одном из островов (Лаго Маджиоре).
О матери Паоло я лично ничего не слыхал. Старший брат его Пётр был как будто талантливым художником, проживавшим всю свою жизнь безвыездно в Америке. Младший Георгий (Джиджино) был изобретателем и, кажется, инженером. Говорю «кажется», так как наука в этой семье была не в чести. Правда, это касается главным образом скульптора Паоло Трубецкого.
Он никогда и нигде не учился «художественной науке» и даже утверждал, что такая наука губит дар художника. Однако ему пришлось много самому учиться для приобретения профессиональных навыков. Он в буквальном смысле был самородок и самоучка, который сам достиг вершин художника-ваятеля, можно сказать, с мировым именем, во всяком случае, получившим признание всей Европы.
Попутно хочу сказать, что его ошибочно называют князем, как это делают многие, в том числе Игорь Грабарь и С. Ю. Витте в своих воспоминаниях. Второй брак Петра Петровича был каким-то образом оформлен в Европе, и фамилия скульптора и его братьев никогда не оспаривалась. Поскольку в России брак признавался незаконным, княжеского титула они не имели. Известно, что их семья возбуждала ходатайство на право княжеского титула. Вопрос рассматривался на съезде Трубецких (был и такой), который отказал им в этом. История с княжеским титулом испортила много крови Паоло Трубецкому. Ему самому, насколько я знаю его характер, было совершенно безразлично, князь он или нет. Он искренне не признавал никаких авторитетов и был далёк от соблазна. Но выходило так: если он пользовался титулом, то это было незаконно и вызывало иной раз недоразумение, а если же не называл себя князем, то это вызывало вопросы, почему это так? Ему приходилось давать на это пространные ответы, если вопрошающего нельзя было послать к чёрту.
Поскольку я затронул «княжеские дела», мне хочется заодно рассказать о как-то связанном с этим забавном эпизоде. Это было, кажется, в 1920 году. Я присоединился к путешествию моей тёти, которая с дочерью и сыном направлялась в Баден-Баден, где она унаследовала от внука, петровского Александра Меньшикова, виллу. Об этом у меня, может быть, будет случай сказать несколько слов в дальнейшем.
Мы выехали из Константинополя на пароходе до Неаполя, оттуда поездом через Рим в Милан, где жил Джиджино Трубецкой, младший брат скульптора. Мы, младшие, его никогда не видели, да и тётя моя знала его только в ранней молодости. На вокзале нас встретил этот новый для нас дядюшка. Несмотря на то, что мы друг друга узнать не могли, наша встреча произошла довольно легко. Надо сказать, что у него менее выраженный, чем у Паоло, русский тип, но и в нём было что-то родственное, да и в нас всех он сразу почувствовал своих… Встреча на вокзале облегчалась ещё и тем, что мы, русские, явно выделялись среди смуглых итальянцев. Принял он нас очень сердечно и по-родственному.
С вокзала мы поехали к нему на квартиру на его автомобиле (в те времена автомобили были ещё сравнительно редки). Посещение его дома не могло не врезаться в память. Он – итальянец, или, вернее, итальянский Трубецкой, не говорил ни слова по-русски, и все разговоры проходили на французском языке, и встретились мы вдалеке от России. Входишь в дом – и Италия остаётся далеко за дверью, как будто и впрямь попал в старомосковский особняк. В комнатах висят портреты дедов и прадедов как родных, так и неизвестно как сюда попавших, в старинных русских мундирах от Мушкетёрского, Преображенского, Семёновского полков до казачьего Атаманского. В столовой горка со старинным русским фарфором. На столах и столиках, а столы были даже петровских времён, стоят в рамках старые фотографии тётей и дядей, в которых наш хозяин разобраться уже не мог. Как-то разом переносишься в Москву, куда-нибудь на Старо-Конюшенный или Скатертный переулок. Даже запах в доме какой-то особенный – свой, русский, и трудно себе представить, что ты где-то в Милане. Но выглянешь в окно – и России как не бывало. Италия бьёт прямо в глаза своим южным светом, оживлёнными улицами с шумливыми местными жителями с их преувеличенной, но живописной жестикуляцией. Поразительно, как живуч наш русский дух, как мог сохраниться такой яркий слепок «Руси уходящей» в самом центре большого промышленного города!
У дядюшки мы остались недолго, несмотря на радушный приём. Он прокатил нас по городу, показал, что мог. Мы проехали мимо знаменитой Ла Скала. Милан, как город, сам по себе мало поэтичен, он завоеван промышленностью, и лишь его знаменитый собор оставляет неизгладимое впечатление.
Джиджино не мог нам не показать свой небольшой завод, где производились ацетиленовые фары для автомобилей, плод его изобретательства и в то время – последнее слово техники. Разглядывая фары, я увидел на их облицовке герб Трубецких в красках с княжеской короной – всё честь-честью, и под ним надпись «trade marka» – фабричная марка! Бедные удельные князья, князь Игорь в том числе! Он в могиле скрежещет зубами и уже не может спеть: «Я свой позор сумею искупить». Да простят мне эту шутку.
Впоследствии я как-то спросил дядю Паоло, как это случилось, что княжеский герб Трубецких оказался фабричной маркой. В ответ я услышал раскатистый смех: «Ха-ха-ха, в России это было бы невозможно, а? Ну ничего, тут он нашёл себе применение».
Не могу сказать, когда Паоло Трубецкой впервые приехал в Россию, но всегда слыхал от старших такой эпизод из его жизни. Когда ему исполнился 21 год, ему кто-то подсказал, что обычно в этом возрасте молодые люди отбывают воинскую повинность. Может быть, было бы неплохо и ему подумать об этом и как-то выполнить свой гражданский долг перед родиной. Хотя ему эта мысль была совершенно нова и никогда в голову не приходила, он всё же внял совету. Он отправился в Россию, чтобы выполнить свои обязанности. Когда предстал перед лицом воинского начальства, ему было сказано, что за ним ничего не числится, так как он в русском подданстве не состоит, и российские власти к нему претензий не имеют. Ему посоветовали обратиться к соответствующим итальянским властям. Но и там ему сказали, что в Италии он числится вроде как бы русский, а потому отбывать воинскую повинность в Италии не должен. Так закончилась его попытка сделаться солдатом. Ни одна сторона его не призвала, чем он, кажется, был не очень огорчен. Тем не менее, этот эпизод был характерным для Паоло Трубецкого и хорошо иллюстрирует беспечность тогдашней Италии. В русском же подданстве он действительно не состоял.
Знаю также, что старший брат моей матери Пётр Николаевич Трубецкой, который был предводителем московского дворянства, много содействовал приезду Паоло в Россию. Благодаря этому он был встречен по-родственному в большом семействе Трубецких и его ответвлениях. Он бывал и живал то у одних, то у других, пользовался родственным гостеприимством летом в усадьбах, в частности, часто бывал в Узком (ныне дом отдыха Академии наук). Помню рассказы – всё это было до моего рождения – про приезд его в Москву с волком, которого он привёз из Парижа. Этого зверя он приручил, как собаку, и никогда не расставался с ним. В Москве с этим волком было много приключений. Когда Паоло садился с ним в пролётку извозчика, то лошади извозчичьи превращались в скаковых лошадей, и начиналась скачка, иной раз с препятствиями, по всей Москве. Учуявшую волка лошадь невозможно было остановить. Паоло Трубецкой уверял, что в Париже ничего подобного не бывало, просто московские лошади не достаточно цивилизованы.
В связи с этим хочу напомнить, что И. Грабарь говорил о скульпторе: «В этом большом самородке и самоучке по технике и мысли странно сочетались наследственная культура длинной вереницы предков и полное отсутствие цивилизации». Видимо, это последнее слово имеет много различных толкований.
Чтобы закончить историю с волком, хочу добавить рассказ моей матери.
Паоло Трубецкой был заядлым вегетарианцем, и волка своего он сделал своим последователем, превратив его в травоядное животное. Однажды в парижском ресторане, где обедала моя мать с Паоло, волк лежал на полу возле их столика. Красивым животным залюбовался рядом обедавший англичанин и, когда поданный ему «кровавый» бифштекс остыл, он кинул его волку, который хитро посмотрел на своего хозяина, обнюхал бифштекс и с презрением от него отвернулся. Тогда Паоло дал ему кусочек хлеба, который он с удовольствием съел. Изумлению англичанина не было предела, а Паоло был в полном восторге от приверженности и верности волка к вегетарианской пище. Случай действительно забавный, особенно когда знаешь его продолжение.
В то время Трубецкой жил в Сен Клу, ближайшем предместье Парижа, сразу за Булонским лесом. За этим пригородом начинались поля и леса, словом, деревня, как это было до последних времён.
Так вот, этот травоядный волк наловчился ночами перепрыгивать через очень высокую стену ограды сада и направляться в луга, где паслись овцы. Там его травоядность исчезала, и он с лихвой удовлетворял свой аппетит за долгие годы воздержания. Он резал не одну овцу и, насытившись, возвращался на виллу. Здесь явно сказалась длинная вереница его кровожадных предков! Местные крестьяне-фермеры проследили волка, и бедному Паоло приходилось расплачиваться за своего вегетарианца по весьма преувеличенным счетам хитрых «пейзан». Но ещё больше его огорчала коварность (так в оригинале. – ред.) волка.
Сам Паоло Трубецкой смолоду стал вегетарианцем и не отошёл от этого до старости и смерти. Я бы сказал, что он был даже каким-то воинствующим вегетарианцем. Помню, это было в конце двадцатых, в начале тридцатых годов, когда он внезапно приезжал к нам в Кламар (пригород Парижа). И если это по времени совпадало с обедом или ужином, то мы старались всеми способами скрыть от него, что мы ели мясо. Когда это не удавалось, то он неизменно громил нас своим громким трубоподобным голосом: «Плотоядные, могильщики живых существ!». Иногда мы сами его «заводили», уверяя, например, что он недостаточно логичен, раз позволяет себе ходить в кожаных башмаках, или ещё что-нибудь в этом роде. Он нас разбивал своей железной аргументацией, но мы достигали своего и слышали в который раз: «Плотоядные…» и проч. Когда же мы заранее знали о его приезде к ужину или обеду, то, конечно, из уважения к нему, хоть и с большим трудом, придумывали чисто овощные блюда. Чтобы вегетарианский обед был вкусным, нужно большое кулинарное воображение и гораздо большее, чем для обычного стола, искусство… Но и здесь не всегда всё гладко сходило. Как-то раз впопыхах купили фаршированный перец. Когда его подали, то, к нашему ужасу, фарш оказался мясным! Возмущению дядюшки не было предела. Его голос гремел и громил нас на целый квартал.
Его тирады на эту тему не были заученными мёртвыми проповедями, а, скорее, походили на речи борца за жизнь животных, которых он страстно любил, как и всю живую природу. И, вступая в бой за них, он делал это со свойственным ему стихийным темпераментом.
Благодаря своей любви к животным он стал замечательным анималистом. Его мастерская была заставлена статуэтками и фигурками животных. Особенно много было изображений лошадей и собак, и каждая статуэтка была своего рода шедевром, так хорошо было передано в них движение, так характерна была поза, так била наружу сама жизнь, присущая каждой из них. Трубецкой говорил, что сходство среди животных чрезвычайно редко встречается.
Он был всегда окружён животными. Я уже рассказал о волке. Позже у него было множество собак, он даже раздобыл где-то чистокровных лаек.
Мне рассказывала мать, что у него была лошадь, которая разгуливала без оголовья по двору и имела свободный доступ в его огромную мастерскую. Паоло часто обедал в мастерской, и лошадь подходила к столу, обнюхивала всё и спокойно съедала зеленый салат, поданный на большом блюде. Если же оказывалось, что салат заправлен уксусом, то лошадь страшно фыркала и обиженно уходила, иной раз оставив за собой кучку чисто переваренной вегетарианской пищи. С этим ничего нельзя было поделать, никакая дрессировка здесь не помогала.
Одно время у него в мастерской жил, по счастью, маленький, но всё же аллигатор. Моя мать и её сестра входили в мастерскую с опаской, так как аллигатор, видимо, в отместку за вегетарианский режим, пребольно щипал их за щиколотку. К их общей радости крокодил не выдержал предложенный ему рацион и сдох.
Я встречался с Паоло от случая к случаю в конце двадцатых и в тридцатых годах. Несмотря на большую разницу в возрасте, мне всегда было интересно беседовать с ним, а ещё больше слушать его. Я относился к нему с благоговением, как к большому художнику, при этом художнику русскому. Мы, живя за границей, как-то особенно остро воспринимали всё, что касалось Родины, и всякое прославление России наполняло нас чувством гордости. Слава Родины своими лучами как бы обогревала и нас.
Совершенно понятно, что я находился под обаянием Паоло Трубецкого.
Мне хочется привести несколько слов о нём Надежды Ивановны Комаровской из её книги воспоминаний «О Константине Коровине»:
«Находчивость, острый язык, бьющая через край талантливость во всём, к чему бы ни прикасался Трубецкой, покоряли Константина Алексеевича».
Эти слова, передающие отношение К. Коровина к Паоло Трубецкому, относятся к 1907 году, но удивительно хорошо передают и мои чувства к нему на двадцать – двадцать пять лет позже, да и теперь к памяти о нём. В подтверждение этих слов хочу рассказать о таком случае.
Паоло знал, что я очень огорчался тем, что, находясь на работе, не всегда имел возможность присутствовать при его посещениях нашей семьи. Дядюшка решил компенсировать меня за это и предложил мне поужинать с ним, при этом обещал мне маленький сюрприз.
В условленный день и час он заехал за мной на своём автомобиле (он вёл машину сам) и повёз меня на площадь «Французской Комедии» в хороший, но средней руки итальянский ресторан. Ужин, как таковой, был для меня (плотоядного) мало интересен, так как пришлось есть, хоть и хорошо приготовленную, но всё-таки всякую траву, овощи. Обещанный сюрприз превзошёл мои ожидания. Оказалось, что Паоло, не имевший какого-либо музыкального образования, написал менуэт для камерного оркестра и ещё несколько маленьких пьес. Старичок-капельмейстер ресторанного небольшого, но очень приличного оркестра, состоящего из итальянцев, помог Паоло оркестровать его музыкальные произведения. Эти вещи и были для нас исполнены оркестром. Весь состав оркестра, среди которого были и молодые люди, с большим почтением отнеслись к Паоло и играли его произведения очень вдохновенно. На остальных посетителей ресторана не обращалось никакого внимания, словно их и не было. Впрочем, и хозяин ресторана, также итальянец, оказался большим поклонником дядюшки, который когда-то сделал с него скульптурный портрет, чем последний был чрезвычайно горд.
Музыка произвела на меня впечатление и показалась мне очень талантливой, немного, но далеко не всегда, старинной. К сожалению, я не имею музыкального образования, хотя и очень люблю музыку, поэтому мои суждения о ней не имеют какого-либо веса. Судя по энтузиазму исполнителей и аплодисментам некоторых посетителей, любителей музыки, которых ресторан привлекал своим оркестром, можно думать, что музыка была и впрямь хороша. Помню, что ноты были написаны от руки и карандашом, а, следовательно, сейчас затерялись.
Я привёл свой рассказ не к тому, что жаль исчезнувшего произведения, а для того, чтобы показать, что, к чему бы ни прикасался Паоло Трубецкой, всё было талантливо и, во всяком случае, всегда с большим прирождённым вкусом.
Восстанавливая в памяти отдельные эпизоды из жизни Паоло Трубецкого, припоминаю такое печальное событие. Это было, должно быть, в 1930–1931 году. Я сидел у нас в саду, только что возвратившись с ночной работы, в тени огромной старой липы. Чудесное утро начала лета, аромат бурно цветущей липы, отдалённый гомон моих ребятишек, играющих в углу сада на куче песка, некоторая утомлённость после бессонной ночи и проделанных за ночь трёхсот километров за рулём такси, отсутствие каких-либо волнующих известий в газетах, которые я просматривал, – всё это действовало убаюкивающе, и я задремал.
Проснулся я, как от пушечного выстрела. Это хлопнула с силой отброшенная старинная, очень тяжёлая дверь нашей калитки. Я открыл глаза и увидел знакомую, высокую, чуть сутулую, большую фигуру Паоло. Он стремительнее обычного огромными шагами направлялся ко мне. Я не успел ещё встать навстречу к нему, как услыхал: «Где Варя, позови её скорее», – так звали мою мать. По отрывистости фразы и какому-то особенному тону голоса, да и неурочному часу приезда я понял, что что-то случилось, и поспешил позвать свою мать. Как только она вышла в сад, Паоло прямо-таки бросился к ней и сказал: «Варя, едем скорее со мной, помоги мне во всём разобраться, я не знаю, что нужно делать. Сегодня ночью умерла Элин».
Узнав о смерти жены Паоло, моя мать сразу оделась и поехала с ним. Я только успел заметить удаляющийся автомобиль, взявший с полного хода поворот на очень оживлённую улицу под прямым углом. Такое начало путешествия не сулило ничего хорошего, и меня волновала судьба моей матери: как-то доедут они?
Жену Паоло, американку, я не знал и никогда не видел, поэтому известие о её смерти не могло меня сильно волновать, я огорчался только за Паоло, который остался один, а ему было уже более шестидесяти пять лет. Про их супружескую жизнь я знал очень немного. Они будто очень любили друг друга, но беспрестанно ссорились и разъезжались, и тут же понимали, что жить раздельно не могут, съезжались и снова разъезжались. Всё шло, как по замкнутому кругу. И вдруг неожиданно круг разомкнулся. Конечно, это событие потрясло Паоло: почти в семидесятилетнем возрасте менять образ жизни тяжело, а привыкать к новому положению ещё того труднее.
Устройство похорон вообще неприятное, а иногда и хлопотливое дело. В условиях же запада это просто ужасно. Вас осаждает с утра до ночи и письменно, и лично, целая свора представителей различных фирм: бюро похоронных процессий, могильщики, мраморщики и каменщики, предлагающие надгробия, гробовщики с каталогом; портные, предлагающие сшить траурную одежду в двадцать четыре часа; цветочные магазины, рекомендующие заказать венки у них и за это бесплатно получить ленты с набором готовых, на выбор, фраз… Представители различных церквей и религиозных сект и просят, и требуют, и вымогают пожертвования – дар за упокой души умершего, а в случае отказа иной раз и грозят всевозможными бедами не только усопшим, но и оставшимся в живых родным. Это далеко не полный список осаждающих вас со всех сторон неприятностей. Эксплуатация человеческого горя там поставлена на широкую ногу. Надо потратить много энергии и проявить большую твёрдость характера, чтобы гнать всех метлой. Ясно, что Паоло с его характером не смог разобраться во всём этом, да ему и не до того было.
Всё это выпало на долю моей матери, которая была в том же возрасте, что и Паоло. Она потом нам рассказывала, как они с Паоло приехали в гостиницу в одну из улочек близ Елисейских полей, где он тогда жил с женой. Их осаждали, к ним в комнаты врывались представители похоронных бюро с елейно-траурными лицами, одетые с головы до ног в чёрное. Надо было, кроме этого, выполнить много различных гражданских формальностей, словом, поговорка: «Умереть спокойно не дадут», – применима здесь в буквальном смысле слова.
Чрезвычайное напряжение и желание как-то вырваться из окружения «дельцов смерти, играющих на нервах» побудили Паоло предложить моей матери поехать и подышать воздухом. Они сели в автомобиль и буквально помчались по городу. Никакие светофоры, ни знаки регулировщиков движения, ни отчаянные свистки полицейских не могли остановить стремительного бега автомобиля, управляемого Паоло. Сначала моя мать старалась как-то урезонить его, но скоро поняла всю тщетность своих попыток. Ей оставалось только крепче держаться за поручни, чтобы не вывалиться из автомобиля. Она говорила, что это была бешеная скачка через весь город. По-видимому, только инстинкт самосохранения заставлял Паоло какими-то виртуозными поворотами руля избегать, казалось бы, неминуемых столкновений. К чему бы привела авария при такой сверхскорости, она хорошо понимала.
Прогулка в таком темпе длилась часа полтора, но ей она показалась вечностью. Так же внезапно, как началась эта страшная гонка, наступила и разрядка напряжения. Автомобиль пошёл спокойно и ровно, а Паоло в первый раз разжал рот и произнёс: «Прости меня, Варя, я даже не помню, что ты сидишь рядом со мной. Могу тебе признаться, что я сам ничего не имел против грандиозной аварии. Как только до меня дошло, что ты со мной в машине, я понял, что поступаю с тобой безобразно». Потом улыбнулся и добавил: «Мы с тобой, два седых старика, должно быть, представляли смешное и удивительное зрелище для парижан с нашей гонкой со стокилометровой скоростью через весь Париж, а?»
Хочу привести ещё одну, но очень характерную страничку из жизни Паоло. Это было в Париже, вернее, в его предместье, где у Паоло была вилла и при ней – мастерская. У него служил француз Эмиль, который помогал ему в приготовлении глины и занимал должность среднюю между швейцаром и привратником, а вернее всего – сторожа. Как-то при посещении Паоло мои родители с удивлением увидели, что на их звонок дверь открыл Эмиль, сменивший свой вечно измаранный фартук на чистенький костюм. Нельзя было не заметить его как-то особо горделивые движения и торжественность осанки. Невольно всматриваясь в преображённого Эмиля, они с изумлением увидели на его груди, на красной ленте, блистающий новизной и своей эмалью орден Легиона Чести. Они тут же пожали руку Эмилю и поздравили его. Они только недоумевали, чем мог прославиться этот простоватый добродушный новоиспечённый кавалер ордена Легиона Чести?!
Незамеченным такое, в своём роде семейное, событие пройти не могло. Когда они расспросили Паоло, в чём тут дело, то выяснилось, что он недавно был награждён французским правительством орденом за свою культурную деятельность. Его-то он и отдал Эмилю для ношения. Когда мои родители пытались доказать, что это совершенно невозможно, Паоло отвечал, что он поступил так потому, что тщеславному Эмилю это доставляет огромное удовольствие. Кончилось это, как и следовало ожидать, довольно крупным скандалом. Друзьям и знакомым Паоло стоило больших трудов доказать обиженным правителям Франции, что у Паоло не было ни малейшего желания издеваться над статусом ордена, что всё произошло по недоразумению. С орденом Эмилю пришлось, конечно, расстаться… Паоло искренне не понимал, почему нельзя доставить удовольствие хорошему простому человеку, раз это его радовало гораздо больше, чем самого награждённого художника. Этот эпизод психологически объясняет и превращение трубецковского герба в фабричную марку. И то, и другое делалось от чистого сердца и не во вред кому бы то ни было.
В мастерской Паоло Трубецкого мне приходилось бывать несколько раз. В то время она уже находилась в Нейли, самом ближайшем предместье Парижа, а жил он, как я говорил, в гостинице, не желая обзаводиться своим хозяйством, так как основная его резиденция была на итальянских озёрах и у брата в Милане.
Работая на такси, мне часто приходилось оказываться вблизи мастерской, я заезжал к нему на авось – может быть, и застану его одного за работой. И каждое посещение приносило мне что-то новое: будь то последняя работа Паоло или старая скульптура, извлечённая из недр и вытащенная на свет Божий.
Помимо всевозможных изображений животных, о которых я уже писал, мастерская была заставлена статуэтками, так называемыми камерными, небольшими по размерам, скульптурами и портретными работами как вполне законченными, так и незавершёнными и заброшенными.
Однажды мне попался на глаза бюст, судя по сырости глины, недавно законченный. Меня удивило лицо из-за отсутствия носа, который как бы был срезан. Я спросил Паоло, что это такое, он мне объяснил, что этот портрет был ему заказан каким-то итальянским банкиром в Париже. Однако хитрый и скупой финансист, узнав, что Паоло находится в данное время в денежном затруднении, предложил ему уплатить за портрет ровно половину ранее условленной суммы. Паоло ответил, что согласен, но скульптура будет вот такой: и быстро оттяпал подвернувшимся резцом нос с портрета коварного банкира. Ясно, что сделка не состоялась, и они разошлись, недовольные друг другом. Рассказывая мне это, Паоло громовым голосом клял банкира – «этого подлеца и негодяя». Впоследствии я узнал, что банкиру пришлось потом долго уговаривать Паоло, чтобы закончить работу, так как ему хотелось увековечить себя и он успел заранее похвастаться своим будущим портретом в кругу знакомых. В конечном счёте, банкирский нос был водворён на положенное ему место, для чего обладателю его оригинала пришлось не один раз добавочно позировать.
В одно из таких посещений мастерской Паоло показал мне свою работу, нечто новое по замыслу. Статуэтку или, вернее, скульптуру он назвал, если память мне не изменяет, «Родник». Прелестная, стройная, молоденькая, нагая девушка, почти ребёнок, стоит спиной к скале, чуть склоняясь к пробивающемуся у её ног роднику. Новым было то, что скульптура была раскрашена в пастельных тонах, а Паоло был и очень неплохим колористом.
Скульптура была более чем привлекательна и казалась воплощением изящества и грации, овеянной какой-то особой поэтичностью. Она оставила впечатление чистоты и свежести и создавала почти физическое ощущение раннего утра с его прохладой и хрустальной прозрачностью воздуха. В этой работе Паоло превзошёл себя и своей лепкой достиг совершенства игры света и тени.
Это было первой попыткой Паоло в расцвеченных (цветных) скульптурах и, мне кажется, большой его удачей. Но это был, насколько мне известно, единственный его опыт в этом направлении и одна из последних его работ.
Последняя же работа, по крайней мере, для нас, бесспорно, оказалась и венцом его творчества.
Мы по его приглашению приехали к нему в мастерскую целой большой компанией родственников, в которой были представлены и стар, и млад, то есть люди всех возрастов и разных пониманий и вкусов. Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть, что, несмотря на наши различия, мы все в одинаковой степени были потрясены увиденным.
Паоло показал нам только что законченный портрет. Это была голова Бетховена. С первого же взгляда нельзя было не понять и не увидеть, что тут изображён уже совсем глухой Бетховен, и одновременно не почувствовать, как он мучительно и страстно вслушивается в звуки своего будущего музыкального творения. Силой своего воображения Бетховен одерживает победу над своей глухотой и страшным напряжением заставляет себя слышать звучание аккордов. Зрители как будто присутствуют при рождении нового великого произведения. Именно это и не что иное с поразительной силой передано Паоло Трубецким, он властно утверждает свой замысел и не оставляет места для иного суждения. Портрет насыщен глубоким содержанием и передаёт величайшую драму величайшего из музыкантов.
Мне довелось ещё несколько раз видеть эту скульптуру, и каждый раз она меня всё так же потрясала. С тех пор прошло много-много лет, и лет тяжёлых, а в памяти моей всё так же живо то, что я почувствовал, увидев её впервые.
Так скульптор Трубецкой ушёл из жизни, в конце которой он сотворил своё самое значительное произведение.
Мы долгое время не видели Паоло, он уезжал в Италию. А ещё позднее и с опозданием пришло печальное известие о его кончине.
Шёл 1938 год. Европу захлестнул восторг политических событий. Вначале жили на грани войны и всё ближе приближались и к самой войне. Народам приходилось туго, а нам, «беспартийным, ничейным», и подавно плохо. Но об этом в другой раз.
Если я вскользь упомянул о европейском политическом климате того времени, то это, чтобы объяснить, что и мы попали в водоворот тревожных событий и были погружены в свои заботы и борьбу за существование, а поэтому на известие о смерти Паоло реагировали, может быть, меньше, чем это было бы в другое время.
Уже после его кончины, я как-то проезжал на своём такси неподалёку от его мастерской. Решил заехать посмотреть, что стало с ней. Привратник беспрепятственно пропустил меня внутрь. Там царила мерзость запустения. Паутина, огромный слой пыли; по оставленным следам можно было видеть, что кое-что взято и не так давно. В общем, осталось впечатление, что мастерская потихоньку кем-то расхищается. Кем? Равнодушный привратник мне не смог ничего сказать. Что стало с головой Бетховена? Где она и кому досталась? Попала ли в музей? Ведь только находясь в музее, она может служить искусству. Я о ней ничего не знаю. Жаль, что такой большой искусствовед, как И. Грабарь, не видел этого творения Паоло Трубецкого. Ему пришлось бы написать ещё одну главу в своей «Истории русского искусства», а, может быть, и изменить уже написанное о творчестве Паоло Трубецкого.
Чтобы закончить свои воспоминания и то, что я слыхал о Паоло Трубецком, со дня смерти которого в 1963 году исполнится 25 лет, хочу привести рассказы старших о памятнике Александру III.
Я всегда слыхал, и не только от моей матери, но и от её братьев и сестёр, что по замыслу Трубецкого памятник Александру III должен был стоять на огромной глыбе-скале. Таким образом, лошадь находилась как бы над обрывом, и это объясняет натянутый повод – всадник как бы осаживает лошадь на краю пропасти. Памятник же был поставлен на постамент, и это искажало мысль скульптора. В проекте пьедестала нет, так как он выполнен в виде статуэтки, но о глыбе, вернее, о скале, на которой должен стоять памятник, Паоло всегда говорил.
С. Ю. Витте в своих воспоминаниях (Приложение «О постройке памятника императору Александру III») говорит: «Сначала предлагали пьедестал устроить в виде глыбы, а затем, по докладу Трубецкого, так как подходящих камней не могли достать, решили устроить нечто вроде катакомбы». Видимо, С. Ю. Витте оговорился и хотел сказать не катакомбы, а саркофага, четырёхугольного ящика. Судя по тому, что я слышал от многих, именно Трубецкой всегда настаивал на глыбе, а потому я полагаю, что С. Ю. Витте ошибается.
Так или иначе, но совершенно ясно, что пьедестал в виде скалы или глыбы совершенно изменил бы как смысл, так и общий вид памятника. Мне хотелось напомнить об этих деталях, так как памятник вызвал много критики и его многие очень ругали.
Можно вспомнить также, что самые близкие люди царя, его жена Мария Фёдоровна и брат Владимир, были под обаянием этого памятника. Это подтверждает и Витте. Он же говорит: «…так известный художник Репин утверждает, что этот памятник представляет собой выдающееся художественное произведение».
И. Грабарь говорит о Трубецком, что он, несомненно, принадлежит к русской школе, что никем и не оспаривается.
Так скульптор Павел Петрович Трубецкой, даже живя за границей, своим громадным дарованием прославлял русское искусство.
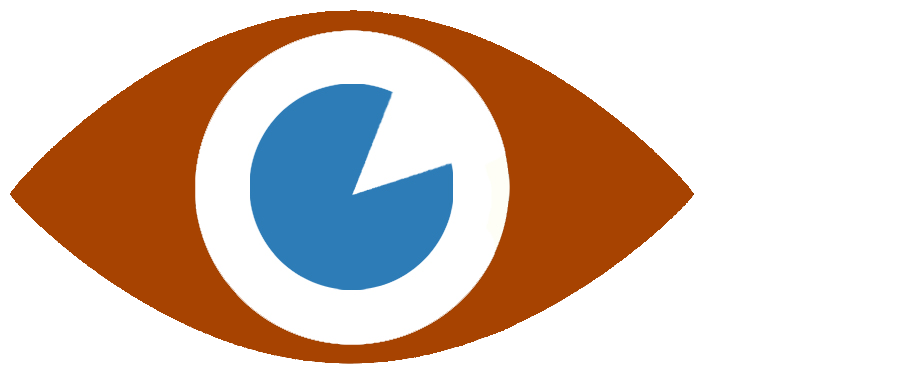 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих